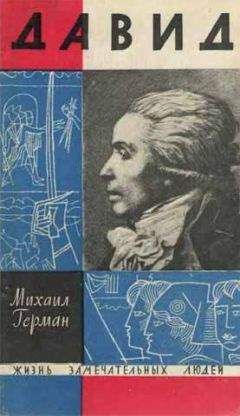Картина «Женщины на террасе кафе. Вечер», показанная на Третьей выставке, еще ближе к XX веку. Четыре дамы на застекленной террасе кафе «Новые Афины». Фон — площадь Пигаль или, скорее, одна из улиц, куда выходили боковые окна, — Пигаль или Фрошо: пространственные отношения в картине весьма и намеренно условны. Персонажи, причудливо освещенные дрожащим светом газовых рожков, ламп, уличных фонарей, показаны изнутри зала на фоне города — прием, на который тогда мог отважиться один лишь Дега. Наркотический и странный Париж начала XX века, Париж Жюля Ромэна или Марселя Пруста, показал на миг свою смешную и грозную гримасу за плечами отчасти мопассановских, отчасти по-энсоровски гротескных героинь. Какими идиллическими кажутся рядом с этой картиной написанные или нарисованные Мане или Ренуаром сцены в кафе: их отважная живопись устремлена, как и у Дега, в будущее, но жизнь и персонажи остаются целиком в XIX веке! Что может быть красноречивее, чем сравнение «Абсента» с небольшой картиной Мане «В кафе» (1878, частная коллекция): в таком сравнении нет категорий «лучшего», но возникает ощущение грандиозной полярности. «Пространство импрессионизма» (обе вещи, по убеждению автора, вполне импрессионистичны!) так велико, поистине необъятно, что и сурово-рафинированная отрешенность в виртуозной и простой картине Мане, и композиционный парадокс изобразительной драмы Дега не спорят, но лишь обостряют достоинства друг друга.
Эстетизировать вульгарность и передавать ее драматичность Дега умел, наверное, как никто другой из его прославленных современников (здесь его последователем стал, несомненно, Тулуз-Лотрек): в его изображениях то претенциозных, то жалких, то смешных актрис — та же отрешенная и сухая точность, тот же обостренный до пронзительной боли изысканный цинизм, что и в изображениях прачек или измученных балерин. «Собачья песня» [218] (1876–1877, частная коллекция) — портрет певицы Эммы Валадон, о голосе которой художник говорил с растерянным восхищением, называя его «грубо, прелестно и одухотворенно нежным».
Могущество линий, великолепие силуэта, почти грозный декоративный эффект обостряют комически величественную жестикуляцию актрисы, изображающей собачку, создают, что часто бывает у Дега, странную фантасмагорию, прорывающуюся в XX век, фантасмагорию, в которой, как и в «Женщинах на террасе кафе», будто бы уже заложены художественные коды Тулуз-Лотрека, Пикассо, даже Паскина. Позднее, возможно, Дега писал и более эффектные картины, но столько открытий и пластических экспериментов он никогда более не делал. Его живопись середины семидесятых годов открывает поражающие воображение парадоксы. Поклонник постмодернистских интерпретаций без труда сыскал бы в его картине «Пляж» (ок. 1875, Лондон, Национальная галерея / Дублин, Галерея Хью Лейна) смешение почти пленэрно написанного, растворенного в бледном солнце пейзажа (редкий пример вполне импрессионистической манеры у Дега) и вызывающе прозаической бытовой сцены — дама, расчесывающая волосы лежащей девочки, а рядом — распластанная на песке детская одежда, напоминающая раздавленное, уплощенное до силуэта неподвижное тело. То, что проницательный критик (Я. Тугендхольд) еще в двадцатые годы назвал «вторжением неожиданного и случайного» в картины Дега и важнейшим его качеством как выразителя современности, в этой картине особенно красноречиво.
Для работы над этим произведением, по словам самого художника, ему достаточно было натурщицы и брошенного на пол мастерской жакета. Разумеется, это объясняет процесс работы, но не возникновение и реализацию мотива, где странно соединены импрессионистический пейзаж, гротескные фигуры купальщиков, заставляющие вспомнить и Домье, и Пюви де Шаванна, и эти темные, с тягучими, ломкими и острыми очертаниями пятна на выбеленном солнцем песке.
«Нет искусства менее непосредственного (spontane), чем мое; вдохновение, темперамент, непосредственность мне неведомы. Надо переделать десять раз, сто раз тот же сюжет. Ничто в искусстве не должно напоминать о случайности, даже движение» [219]. Высказывание любого художника о самом себе редко бывает точным. Однако отрицание собственной непосредственности Эдгаром Дега сомнений не вызывает и убеждает в том, что видимая непосредственность его композиций стоила ему дорого. Конечно же, импровизационность, которой буквально «дышат» картины Дега, — всегда плод долгого труда и логических размышлений, что подтверждается его суждением.
На Третьей выставке торжествовали парижане и сам Париж — в работах Дега, в картинах «Площадь Европы» и «Парижская улица, дождь» Кайботта, «Вокзалах» Моне. Наконец, Ренуар показал свой бессмертный эталон Парижанки, который вошел навсегда и в искусство, и в зрительское сознание, и в устойчивые ассоциативные ряды. «…Оригинальный художник, оригинальный писатель действуют на манер окулистов. Лечение их живописью, их прозой не всегда приятно. Когда оно закончено, они говорят нам: „А теперь смотрите!“ И вот мир (который был сотворен не единожды, но творится всякий раз, как является оригинальный художник) предстает перед нами полностью отличным от прежнего, но совершенно ясным. Мы обожаем женщин Ренуара, Морана или Жироду, в которых до лечения мы отказывались видеть женщин» [220] (Марсель Пруст).
Огюст Ренуар. Портрет актрисы Жанны Самари. 1878
Огюст Ренуар. «Портрет актрисы Жанны Самари». Этот портрет 1878 года [221], находящийся ныне в Эрмитаже, обладает (как и многие другие произведения Ренуара) парадоксальным свойством: он нравится решительно всем. От знатоков, обладающих искушенным, отточенным вкусом, до наивных любителей карамельной красивости.
Слава написанных Ренуаром портретов Самари (их несколько) велика, но отчасти стерта от слишком привычного и суетного восторга. Тем более, как уже говорилось, Ренуар, вероятно, единственный несомненно великий мастер конца XX века, о вкусе которого то и дело приходится говорить с вопросительной интонацией. В случае с портретами Жанны Самари истонченная, нет, не приторность, но все же едва ли не чрезмерная грация живописи, равно как и театральная кокетливость самой модели, ставит работу художника на ту опасную грань, за которой строгое искусство начинает, если угодно, «слишком нравиться самому себе». И все же — как практически всегда у Ренуара — эта грань остается неперейденной.
Актриса Жанна Самари на портретах Ренуара уже второе столетие существует в памяти и воображении зрителей как классический тип «ренуаровской» женщины и вообще француженки — от импрессионистов до Фужиты, как прообраз красавиц Трюффо, Карне или Клера, а в России и как прототип героинь Мопассана в знаменитых иллюстрациях Константина Рудакова [222].
В пору работы Ренуара над первыми вариантами портрета (1877) мадемуазель Самари было двадцать лет. Ренуару — тридцать шесть, и он, как и его друзья, писал в ту пору лучшие свои вещи.
Пролог к портретам Самари — уже совершенно театральные и по мотиву, и по исполнению портреты госпожи Анрио [223]. На обеих картинах — «Госпожа Анрио травести