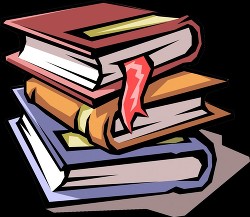Ирэн была женщиной, которой можно жить, как
воздухом, как самой жизнью. Никто не вспоминается с такой болью и сожалением, как она. Это
была самая родная душа.
Снится, конечно, и взрыв. Причём, в таких ситуациях, которых никогда не могло быть в жизни.
Вот он ещё подростком катается на велосипеде по мелководью у берега, радуясь радужными
веерам воды от колеса. Вот несётся через мелкую протоку, а из воды высовывается бок большой
авиационной бомбы. Он почему-то не может повернуть сверкающее колесо, и тут для него всё
гаснет. Но гаснет уже знакомо: так, как это уже пережито. Правда, тут он видит ещё себя и со
стороны. Видит, как взлетает вместе с велосипедом и бесследно уносится куда-то вверх. И всё это
одновременно страшно, красиво и от такого смешения красивого и страшного – глупо.
В минуты ясности, пытаясь восстановить ощущения и услышать тело, Роман напряжённо
прислушивается к себе: не шевельнётся ли где-то в своём далеке что-нибудь хоть чуть-чуть
живое? Но тело всё так же бесконечно и бесчувственно в любую сторону, как ночная степь или
пустыня. Что там сейчас за пределами своего одинокого, локального мирка, построенного и
восстановленного из материала прошлого: зима, весна, лето, осень? День или ночь? Есть ли там
другая жизнь вообще? А смерть и в самом деле совсем не страшна. Не стоит тешить себя
иллюзиями и верой в какой-то странный потусторонний лифт. Откуда только и взялась эта
фантазия? Скорее всего, это не более, чем игра воспалённого мозга. Остынет мозг, и всё исчезнет.
Морально-физический предел есть у каждого. Когда он заканчивается у здорового человека,
способного действовать физически, то этот человек умирает. У Романа в его безысходности
кончается и первый предел, и второй, и третий, а неслышимый им организм продолжает работать
по какой-то своей, независимой, обособленной программе. Никакими усилиями мозга, никакой
мыслью его нельзя ни остановить, ни притормозить, ни уничтожить. Отключиться от сознания
какой-либо мыслью или командой не выходит. Когда-то, довольно отвлечённо рассуждая о разных
способах ухода из жизни, Роман думал, что при необходимости можно не только утопить себя в
ванне, заткнув собственной пяткой слив, но и просто задохнуться, зажав рукой рот и нос. Но здесь
невозможно и это. Здесь нет ванны, воды и пятки, нет руки и не понятно: есть ли само дыхание?
Спасает лишь то же беспамятство, из которого потом приходится снова с горечью всплывать.
Однако, сколько ни всплывай, а ничего нового в сознание не добавляется. Тебе достаётся всё тот
же восстановленный объём жизни, мысленно прожитый уже до дыр, а нового – ничего. Так чем же
здесь занять себя ещё? И тут, пожалуй, выбора нет – он может занять себя лишь тем, чего не
знает, а именно – будущим. Неизвестность – вот материал из которого мы строим свои судьбы. А у
него сейчас этого материала на сотни вариантов своей возможной жизни, которой на самом-то
деле, кажется, не будет.
И всё же, как назвать это состояние: жизнь или уже нечто другое? Очевидно, всё, что он может
– это создать (воздвигнуть, построить) такую мысль, чувство или эмоцию, то есть, такой посыл,
который либо заклинит сердце, либо даст пинок для жизни. Быть бесконечно подвешенным между
жизнью и смертью уже невыносимо. Для ухода в смерть из этой подвешенности не предусмотрено
дверей. Через жизнь, где возможны действия и поступки, уйти куда проще.
537
В один из дней (теперь можно уверенно сказать – именно «из дней») происходит потрясающее
открытие, состоящее в том, что Жизнь всё-таки есть! За всё время пребывания в своём невидимом
гробу Роман накопил коллекцию всего лишь из десятка звуков, но – сегодня! Сегодня нечто иное!
Сегодня слышен некий смутный гул, на фоне которого различимы всплески каких-то неясных, но
более ярких звуков. Вот она, ниточка, вот она, самая живая связь. Вот за что надо уцепиться, вот
над чем следует работать! Эти шумы и звуки остаются потом и на второй день, и на третий. А по
шумам, так похожим на голоса, уже можно различать дни и ночи. Очевидно, он слышит врачей,
делающих каждодневный обход. Теперь можно считать дни! Да, да, да! Вот теперь наконец-то
можно в «углу» тёмного пространства сознания поместить собственные часы. Пусть они висят, как
в комнате, показывая время всякий раз, когда бросишь на них мимолётный взгляд. Теперь хоть в
какой-то мере можно реализовать своё ощущение времени, сделав из него часы, способные идти.
Только вот какие деления нанести на их циферблат? Пусть поначалу они считают и показывают
неделю. То есть вполне достаточно, чтобы на этом циферблате было всего лишь семь крупных
делений, по количеству дней.
А через двадцать восемь сосчитанных дня, когда мысленные стрелки на циферблате его часов
сделали четыре круга, отсчитав четыре недели, приходит догадка, что обходы врачей, которые он
слышит, бывают не каждый день а лишь раз в неделю. Выходит, что на самом-то деле прошло не
двадцать восемь дней, а двадцать восемь недель, то есть более шести месяцев… Что ж, как бы ни
было это огорчительно, но тут не остаётся ничего иного, как по-новому перечертить воображаемый
циферблат. И, к сожалению, для более тонкого дробления времени никаких дополнительных
ориентиров пока что нет.
Остаётся непонятным и то, как его кормят, как убирают из-под него, ставят ли ему какие-то
уколы и каков он в принципе: что от него осталось, есть ли у него глаза, руки, ноги… А если он
вообще находится в форме одного лишь мозга, находящегося в какой-нибудь тарелке под
прозрачным колпаком? Сейчас медицина может всё. Говорят же, что мозг сам по себе не чувствует
боли… Да, боли нет, но ведь звуки-то слышны. Значит, уши по меньшей мере, у него есть. И этот
факт почему-то вселяет уверенность, что он сейчас всё-таки больше, чем просто мозг. Да в другое
просто и верить не хочется. Верить во что-то другое нет смысла…
* * *
Кровать Романа стоит в специальном помещении, где всё свободное место занято
оборудованием для поддержания жизнедеятельности организма. Остальные формальные правила
госпиталя здесь тоже соблюдены по-военному строго. Тут, например, приткнута совершенно
ненужная тумбочка, в которой лежат личные вещи Романа, доставленные с ним. В верхнем ящичке
пачка конвертов без марок, бумага для писем, зубная щётка и паста – всё, как полагается. Здесь
же лежит тетрадка с его длинным письмом Лизе. Всё имущество этого неслышного пациента давно
уже воспринимается санитарками, сёстрами и врачами как вещи, которые никогда ему