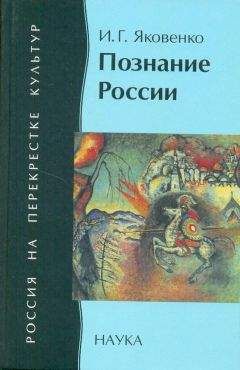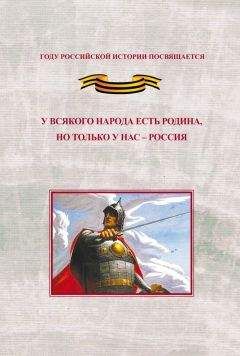Так в самом конспективном изложении выглядит палитра ответов, которые возникали в сознании людей, сталкивавшихся с фундаментальным несовпадением сакральной нормы и природы вещей. В этом многообразии легко выделяется несколько базовых ответов.
Сакральная нормативность может быть признана ложной, внушенной человеку злыми, либо подчиненными духовными сущностями (ангелами, Демиургом), невыполнимой по фундаментальным обстоятельствам. Тогда спасение становится делом случая и происходит в силу благодати Отца, а человек объявляется свободным от предписаний Должного.
Другой ход религиозной мысли связан с ожиданием скорого Страшного суда. В контексте грядущего события верующие еще выше поднимают планку сакральной нормы, делая ее абсолютно невыполнимой для человека, вписанного в систему социальных связей. В этом случае вопрос о выполнимости либо не ставится, либо молчаливо признается невыполнимость нормы. Сакральная норма трактуется не как норма жизни на земле, но как норма ухода из бытия, норма для тех, кто желает спасти свои души в момент краха этого мира.
Поднятие планки Должного, связано также с дуалистическим отторжением материальной природы, убеждением в том, что все телесное нечисто и потенциально греховно. Интенционально евстафиане, энкратиты, манихеи выводили верующего из мира, подталкивали к исключению из системы социальных связей. Максимальное выражение этой интенции мы находим в учении апотактитов — течение в энкратизме III–IV в. Апотактиты отказывались от мирских благ и радостей жизни, от всех связей с людьми и от всякого имущества117. Как представляется, данное движение религиозной мысли также исходит из признания невыполнимости сакральной нормы в рамках этого мира. Выход обретается на путях создания особого пространства, насколько это возможно исключенного из «мира сего». Цели человеческой жизни принципиально выводятся за рамки мира. Ничто мирское не ценно и не существенно. Так, разрывающие брак евстафиане бросали детей, утверждая, что спасение собственной души важнее.
Ответ рационалиста Пелагия в целом имеет оптимистический характер. Согласно его учению человек может стать безгрешным в силу своей свободной воли. Пелагий полагал, что человек спасается не внешними подвигами и правоверным исповеданием учения церкви, а лишь его действительным исполнением, через постоянную внутреннюю работу над своим нравственным усовершенствованием. Он также фиксирует обозначенную нами проблему, но видит пути для разрешения этого противоречия.
Наконец, надо выделить житейскую стратегию, состоящую в ежечасном попрании сакральной нормы на фоне исповедания этой нормы как Божественного установления. Оправданием уклонению от нормы служат ссылки на немощь человеческой природы и силу греха. По-видимому, статистически эта стратегия и соответствующие ей ход мысли, была самой мощной. Люди различались мерой попрания должного и мерой рефлексии — признания и осознания этого обстоятельства.
Мы рассмотрели коллизии, связанные с осмыслением конфликта сакральной нормы и природы вещей, разворачивавшиеся в эпоху формирования христианской догматики. Далее эти проблемы возникают снова и снова. Ересиархи, расколоучители, философы бьются над проблемой запредельного сакрального Должного. По существу, обозначенная нами проблема, если не снимается, то утрачивает болезненную остроту лишь по мере утверждения мироощущения, свойственного Новому времени. Человек, прошедший Реформацию и Просвещение, вступивший в секулярную эпоху, обретает качественно иную картину мира. Здесь возникает сложное и богатое нормативное пространство, в которой выделяется абсолютный нравственный идеал, и норма практической жизни. Представление об источнике нормативности также становится сложнее и богаче. Норма интериоризуется. Нравственный закон живет внутри сознания человека, становится значимой компонентой самоидентичности. Следование ему задано не столько страхом перед грехом, сколько самостоянием, потребностью в самоуважении. Нравственно зрелый человек Нового времени осмысливает и переживает проблему нормы вне зависимости от своих религиозных, либо атеистических убеждений.
В русской культуре проблема соотношения сакральной нормы и природы вещей либо не ставится, либо звучит эпизодически, причем эти высказывания располагаются на периферии культурного пространства, не подхватываются другими, не попадают в центр общественного внимания. Доминирующая интенция противоположна. Русская культура больше озабочена поисками и утверждениями «абсолютного добра», т. е. — созданием конструкций Должного. Религиозная и философская мысль выходит на обозначенное проблемное пространство эпизодически. В традиционной культуре присутствует установка на немощь человеческой природа, которая снимается или избывается глубиной раскаяния. Не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься. Иногда этот ход мысли подвигает православных к достаточно колоритным практикам (хлысты). Но в целом просматривается табу на разработку и осмысление проблемы драматического соотношении Должного и природы вещей. Дальше констатации немощи человеческой природы, отечественная мысль не идет. Притом что такое положение вещей укоренено в культуре, сама эта табуация не осознана, не проговорена. Но именно такие табу бывают самыми крепкими. Запрет на осознание табу — знак высшей степени закрепления. Нельзя преодолеть того, что не осознанно.
В русской литературе второй половины XIX — начала XX в. встречаются отдельные отголоски нашей темы. Их можно найти у скрытого гностика Достоевского. Несколько позже, на другом фланге литературного процесса, в повести террориста Бориса Савинкова «Конь вороной» встречаем рассуждение:
«Не убий»… Мне снова вспомнились эти слова. Кто сказал их? Зачем? Зачем неисполнимые, непосильные для немощной души заветы?118
Впрочем, между этими авторами общего больше, чем это может показаться с первого взгляда. Достоевский — бывший революционер, каторжанин, ставший писателем. Савинков — профессиональный революционер, террорист, баловавшийся литературой. Оба прошли через идею разрушения существующего мира, а это умонастроение резонирует гностическому миро переживанию. Показательно, что повесть Савинкова написана в 1923 г. Как считал автор, Россия уже погибла, и эту гибель он переживал и осмысливал совершенно апокалиптически. Само название повести отсылает к Апокалипсису. Иными словами, только в контексте окончательного краха российской реальности, писатель рожденный на русской почве задается проблемой, напрочь закрытой для осмысления врожденной культурой.
Проблема: почему русская культура принимает Должное без каких бы то ни было размышлений, табуировав движение мысли в этом направлении — специальная, захватывающе интересная тема. Здесь мы подходим к узловым моментам системогенеза русской культуры.
В порядке предварительного рассуждения отметим следующее: позднеантичное общество наследовало богатейшую логическую, философскую, юридическую, риторическую культуру. Римская империя II–VII в., являло собой поле взаимодействия множества культурных, религиозных традиций, а такая диспозиции мало способствует не рассуждающему принятию каких-либо, постулатов. Христианство утверждалось медленно, постепенно проникая в образованные слои общества, привыкшего размышлять, сопоставлять, соотносить услышанное со своим видением и собственным пониманием истины. Лишь в IV в. христианская община обретает возможность использовать «аргумент к городовому», причем внутри Византии самые разнообразные неортодоксальные секты и течения существовали веками. Власти приходилось мириться с реальностью. Поздний Рим увядал и распадался. Императоры сменяли друг друга, страна рассыпалась на противоборствующие лагеря, собиралась заново, последовательно утрачивала часть своей территории. Такое положение вещей не способствует не рассуждающему благоговению перед земной властью. Однако, в силу фрактальности и изоморфизма культуры, отношение к земной Власти задает образ Власти небесной. Все это формировало характер описанных нами процессов, разворачивавшихся на территории Римской империи.
На Русь христианская доктрина приходит в IX в. Время богословских баталий осталось позади. Ортодоксальная доктрина сложилась целиком и полностью, утверждена на Вселенских соборах, «отлита» в Символах веры. Сочинения оппонентов ортодоксальной позиции уничтожены, альтернативные ортодоксии секты тяготеют к территориям давно включенным в исторический процесс. Ближайшие к Руси сектанты — болгарские богомилы, по-видимому, были известны на Руси, однако заметного влияния не оказали. Иерархия совсем не расположена расширять умственный кругозор новообращенных, посвящая их в систему аргументов противников ортодоксальной позиции.