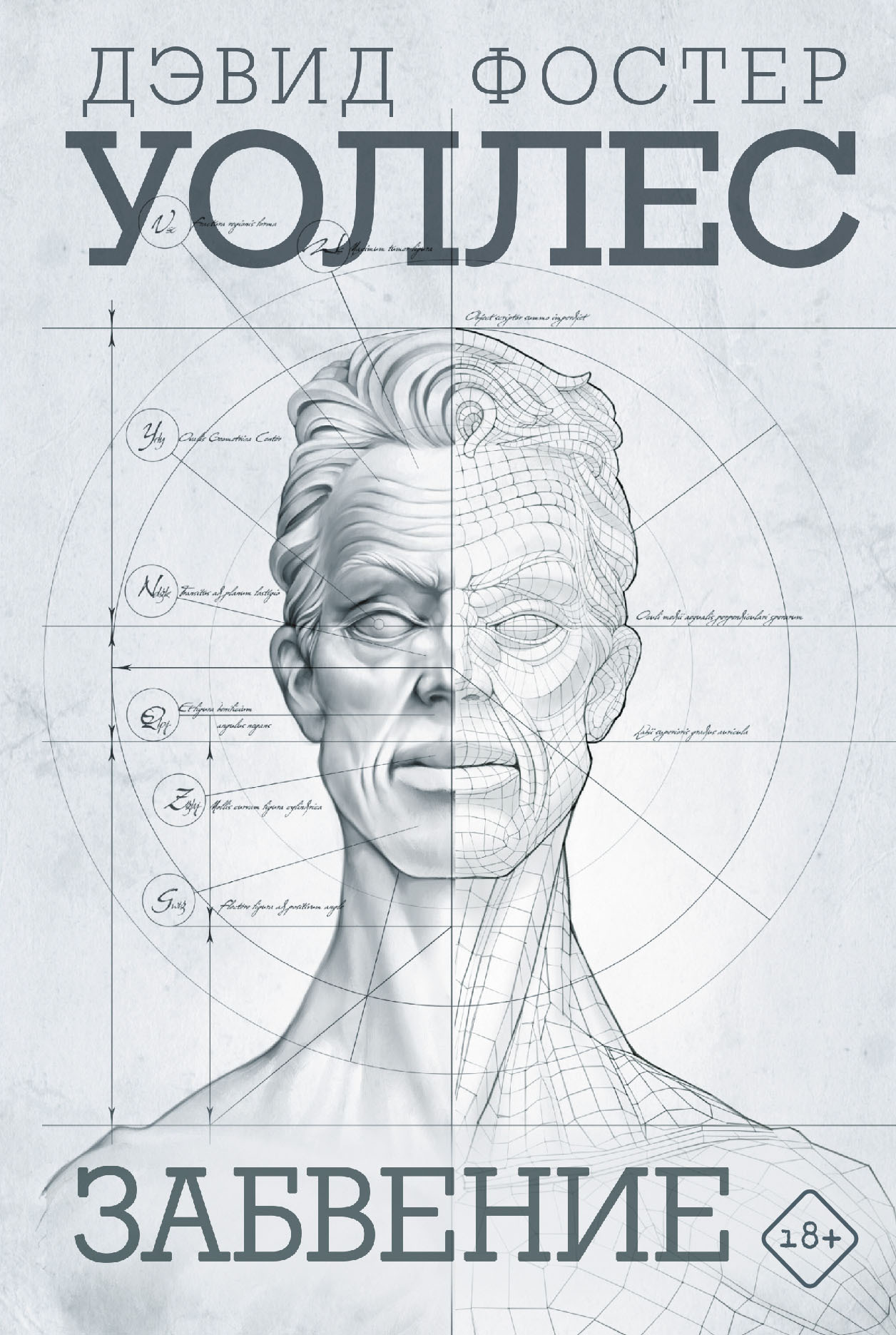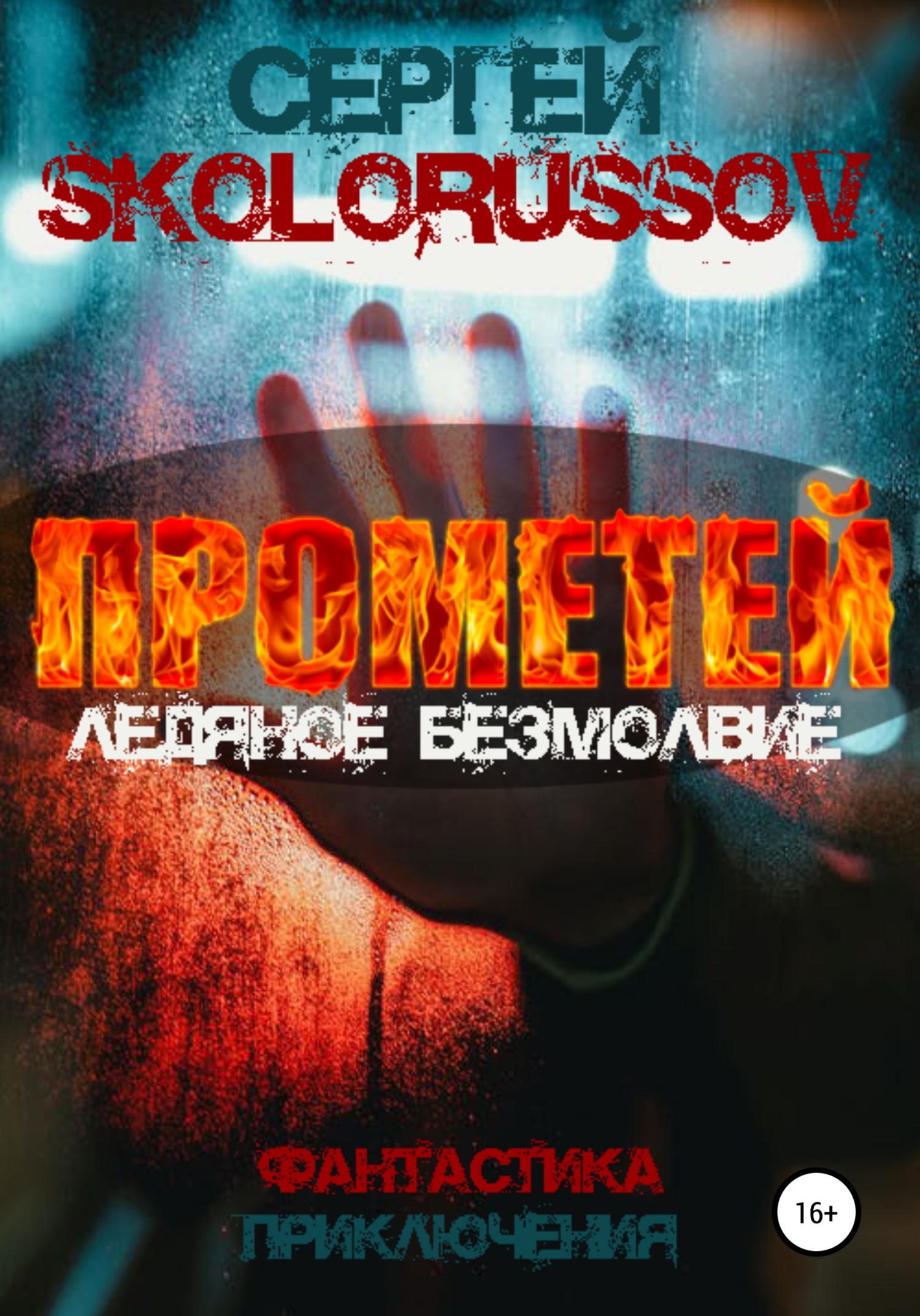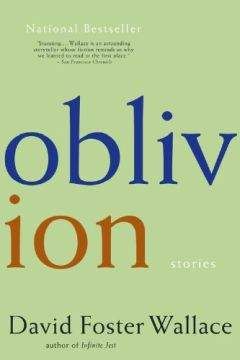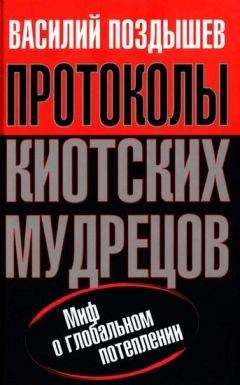время, по сути, бывшая провинцией по отношению к империям Китая, Индии и Ближнего Востока, сумела в XIX веке так сильно дистанцироваться от остального мира. На главный вопрос «Почему именно Европа?» в книге дан простой ответ из одного слова: уголь.
История промышленности, сокращенная до масштаба «капитализма ископаемых» (с идеей, что наша экономика – это система, основанная на ископаемом топливе), отчасти весьма убедительна, но она не представляет полной картины; существуют и другие факторы, помимо сжигания нефти, благодаря которым мы можем принимать отдел йогуртов в супермаркете как должное (хотя, возможно, их не так много, как вам кажется). С точки зрения того, как тесно остаются взаимосвязаны эти две силы и как судьба одной определяет судьбу другой, термин может оказаться очень полезным. И он порождает вопрос, который часть левых уже считает риторическим: «Переживет ли капитализм изменение климата?» (33)
Вопрос неоднозначный, и ответы на него различаются в зависимости от положения отвечающего в политическом спектре, которое, вероятно, и определяет то, что вы понимаете под «капитализмом». Глобальное потепление может способствовать зарождающимся формам экосоциализма на одном конце спектра, а на противоположном – уничтожать веру во все, кроме свободного рынка. Торговля, безусловно, выстоит, возможно, даже будет процветать, как это происходило и до капитализма – люди заключали сделки и менялись вещами задолго до появления тотальной системы контроля этих процессов. Жажда наживы тоже никуда не денется, как и те, кто постарается подмять под себя немногие оставшиеся выгоды, – в мире с дефицитом ресурсов, в мире, страдающем по исчезнувшему изобилию, такая мотивация всегда будет расти.
Последнее более-менее соответствует тому, о чем писала Наоми Кляйн [95] в своей книге «Доктрина шока» (34), где она документирует незыблемую реакцию сил капитала на любой кризис – они всегда требуют предоставить себе больше полномочий, пространства и автономности. Реакция финансового сектора на климатические бедствия – не главная тема книги, в основном она посвящена политическому коллапсу и кризису технократии. Но «Доктрина шока» дает ясное понимание того, как себя поведет мировая финансовая элита в период экологического кризиса. В качестве недавнего примера Кляйн рассмотрела остров Пуэрто-Рико (35), до сих пор не восстановившийся после урагана «Мария» и примечательный не только тем, что ему не повезло оказаться на пути спровоцированных изменением климата ураганов. Этот остров активно производит «чистую» энергию, но тем не менее импортирует всю свою нефть; это сельскохозяйственный рай, но всю еду ему тоже приходится завозить в страну. И то и другое поставляется из материковой квазиметрополии , которая видит в острове лишь очередной рынок сбыта. Метрополия полностью подавила всю власть на острове, вплоть до энергокомпании, и назначила совет акционеров, чей интерес состоит лишь в сборе долговых выплат.
Пожалуй, трудно найти более яркий пример имперского капитализма во времена меняющегося климата. Но теперь появился конкретный пример его последствий. В 2017 году, сразу после урагана, Соломон Сианг и Тревор Хаузер подсчитали, что «Мария» может сократить доходы Пуэрто-Рико на 21% в течение следующих 15 лет (36) и экономике острова может понадобиться 26 лет для возвращения на прежний уровень – а он, напоминает Кляйн, и так был невысоким. Однако за бедствием не последовало ни резкого увеличения социальных затрат, ни карибской версии плана Маршалла; вместо этого Дональд Трамп кинул несколько рулонов бумажных полотенец жителям Сан-Хуана и оставил их уповать на милость чужаков, распределяющих гуманитарную помощь, – и милости этой не дождаться. Последствия финансового кризиса заметны здесь невооруженным глазом, говорят Сианг и Хаузер, предполагая, что кризисы такого рода могут стать лучшей концептуальной моделью для климатических катастроф. «Для Пуэрто-Рико, – пишут они, – экономические потери от урагана „Мария“ могут быть такими же, как для Индонезии и Таиланда от азиатского финансового кризиса 1997 года, и вдвое большими, чем для Мексики от кризиса песо в 1994 году».
Насколько устойчивой окажется доктрина шока в эпоху нового типа климата, атакующего экономики всего мира экстремальной погодой и стихийными бедствиями с невиданной частотой и – в сокращающийся промежуток между ураганами, потопами, жарой и засухами – угрожающего уничтожить урожаи и изувечить рабочую силу? Этот вопрос остается открытым, как и все другие, связанные с реакцией человека на глобальное потепление в настоящем и будущем. Однако и здесь то же самое – даже относительно небольшие поправки в основополагающую ориентацию Запада на бизнес и финансовый капитализм вызовут большие потрясения, поскольку сама эта ориентация определяет коллективное ощущение того, что приемлемо, а что недопустимо.
Есть шанс, что борьба за снижающиеся прибыли со стороны власть имущих только усилится и власть капитала укрепится еще сильнее; такой вариант можно спрогнозировать, исходя из событий последних десятилетий. Но за эти десятилетия капитализм успешно использовал обещание стремительного роста в качестве своего пиар-козыря. На самом деле, несмотря на все многочисленные и даже конфликтующие вариации рыночной экономики, это обещание служило чем-то вроде основы мировой идеологии по крайней мере с 1989 года – и не случайно углеродные выбросы рванули вверх с окончанием холодной войны (37).
Изменение климата ускорит два тренда, уже ставящих обещание экономического роста под вопрос. Во-первых, оно спровоцирует глобальную экономическую стагнацию, которая в отдельных регионах проявится как перманентная рецессия; во-вторых, ударит по бедным в гораздо большей степени, чем по богатым, как глобально, так и в отдельных странах, усиливая стремительно растущую разницу в доходах, которая будет вызывать возмущение у всё большего количества людей. В будущем, управляемом этими двумя силами, к самым богатым людям мира, в настоящее время присвоившим себе монополию и на социальную власть, появится, мягко говоря, очень много вопросов.
И что же они ответят? За исключением социального дарвинизма, трактующего неравенство как «честный» исход и активно продвигаемого богатейшим процентом населения планеты, силам капитала, пожалуй, будет нечего предъявить в свою защиту. Рынок уже много лет оправдывает неравенство наличием «возможностей» и, словно мантру, повторяет слова о новой эре процветания, где всем будет хорошо. Пожалуй, в этом подходе всегда было больше пропаганды, чем правды. После мирового экономического кризиса и последовавшего за ним вопиюще неравного восстановления стало совершенно ясно, что в самых развитых капиталистических странах почти вся прибыль достается самым богатым и это длится уже несколько десятилетий. То, что один этот факт отражает кризис всей системы, понятно не только по волне бушующего популизма, со стороны как правых, так и левых охватившего Европу и США в годы после кризиса, но