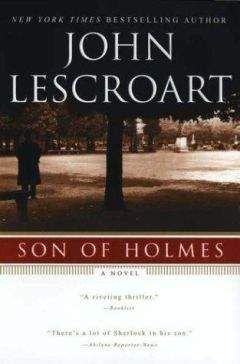чтобы защитить систему лжи.) Они напоминают о том, что открывает боль и что даже она не может сказать.
слышало ли ты меня / сердце? / мы терпим
поражение где-то еще /
мы терпим это животное где-то
наших мертвых / где-то еще
пусть они не шумят / затаятся / не
слышно пусть будет даже молчания их костей /
косточек маленьких голубоглазых зверьков /
сидящих словно примерные дети за столом /
дотрагивающихся до боли, того не желая /
не говорящих ни слова о ранах от пуль /
с золотой звездочкой и луной во рту /
что появляются во рту у тех, кого они любили. [115]
Эти стихи помогают увидеть нечто иное в картинах Фриды Кало, нечто такое, что явно отличает их от картин Риверы и любых других мексиканских художников, их современников. Ривера помещал своих персонажей в пространство, которое было ему подвластно и которое принадлежало будущему; он устанавливал их там как памятники: они написаны для будущего. Будущее (хотя и не то, которое ему виделось) пришло и ушло, и персонажи остались в прошлом, одни. В работах Кало не было будущего, только бесконечно скромное настоящее, к которому все изображенные подробности немедленно возвращаются, когда мы на них смотрим, – подробности, ставшие воспоминаниями прежде, чем были написаны, воспоминаниями кожи.
Так и мы возвращаемся к простому действию, совершаемому Фридой, когда она наносит краску на гладкую поверхность, которую облюбовала для своих работ. Лежа на кровати или скорчившись в кресле, она брала в руку (на каждом пальце по кольцу) тончайшую кисточку и вспоминала все, чего касалась эта рука, как все было, когда не было боли. Она писала, например, то ощущение, которое возникает в руке, прикоснувшейся к полированной древесине паркетного пола, или к резиновому протектору шины ее инвалидного кресла-каталки, или к пушистому цыпленку, или к зернистой поверхности камня, – и писала, как никто другой. И этот неброский дар (его не вдруг заметишь) происходит от того, что я назвал чувством двойного осязания, следствием фантазии, будто она пишет на собственной коже.
На автопортрете 1943 года она лежит на камнях и сквозь ее тело прорастает какое-то растение – Фридины вены сливаются с прожилками на листьях. Позади нее простираются до горизонта плоские горы, похожие на волны окаменевшего моря. Но на что и впрямь очень похожи эти камни, так это на следы, которые остались бы у нее на спине и ногах, если бы она действительно лежала на таких камнях. Фрида Кало лежала щека к щеке со всем, что она изображала.
Ее превращение во всемирную легенду отчасти обусловлено тем, что в темный век нового мирового порядка, в наш с вами век, разделить свою боль с другим – главное условие обретения достоинства и надежды. Большая боль неразделима. Но желание разделить боль вполне разделимо. И от такого заведомо неадекватного разделения возникает упорство.
Послушаем снова Хельмана:
надежда часто нас оставляет
горе – никогда.
вот почему некоторые думают
что осознанное горе лучше
неосознанного.
они верят что надежда это иллюзия.
они обмануты горем. [116]
Кало не обманывалась. На ее последнем полотне, написанном перед самой смертью, ее рукой начертано: «Viva La Vida». [117]
42. Фрэнсис Бэкон
(1909–1992)
Меня всегда приводили в недоумение не работы Фрэнсиса Бэкона, а его солидная репутация. Но, обдумав как следует шесть его новых полотен, выставленных в галерее «Ганновер» в Лондоне, [118] я полагаю, что начал понимать природу этого явления более отчетливо.
Три из этих картин изображают римского папу (Иннокентия X с портрета Веласкеса), сидящего на своем папском троне внутри прозрачного куба, наподобие стеклянной витрины в музее, в черной, похожей на ящик комнате. (На двух из них черты папы «растворяются» в крике.) Четвертое полотно – портрет г-на Люсьена Фрейда, также помещенного в стеклянный куб и коробку; на пятом – палеолитический человек, скорчившийся на фоне серого занавеса; на шестом, меньшего размера, чем остальные, некий мужчина пристает к обезьяне в зоопарке.
Самое поразительное в этих картинах то, что они существуют. И это не такое глупое высказывание, как кажется. Многие современные картины настолько фрагментарны, что их значение – подобно подслушанным обрывкам разговоров – полностью зависит от контекста. Едва ли можно сказать, что они существуют сами по себе. А полотна Бэкона именно что существуют сами по себе и действительно обладают качеством убедительного присутствия, которое становится еще убедительнее из-за их шокирующей, несуразной тематики. Мы смотрим на них словно загипнотизированные, как агностик, завороженный призрачным видением во время спиритического сеанса. И в самом деле, сероватые фигуры, материализовавшиеся из тьмы, местами выписанные детально, а местами почти неразличимые, очень напоминают таинственную эктоплазму.
Однако причины, по которым картины Бэкона обладают эффектом присутствия, в своей совокупности оказываются теми же самыми, по которым, как мне думается, Бэкона можно считать любопытным, но по большому счету вовсе не великим художником, поскольку его творчество не принадлежит к великой живописной традиции. Его работы потому так воздействуют на зрителя, что Бэкон скорее великолепный антрепренер, чем оригинальный визуальный художник, а также и потому, что эмоции, которые эти картины выражают, исключительно и даже пугающе личные.
Я утверждаю, что Бэкон скорее блестящий антрепренер, чем оригинальный художник, потому что в его работах нет ни малейших следов визуальных открытий, а есть только изобретательное и умелое расположение образов. Объекты изображения на его полотнах выбраны из-за тех значений, которые они уже имеют, а необычность создается путем их странного сопоставления. Никакого нового значения в процессе написания у объектов не прибавляется. Глядя на римского папу, зритель не приобретает какого-то нового и живого знания о строении человеческой головы или об эмоционально насыщенном взаимодействии двух цветов. Вместо этого он заворожен особенным драматическим фокусом: его взгляд следует через открытые области черной краски на незагрунтованном холсте и упирается в уставившуюся на него голову, написанную серой краской, смешанной с песком, так что цвет приобретает едкий, раздражающий оттенок сигаретного пепла. Зритель замечает складки занавеса и облачения, но не потому, что они указывают на скрытые формы, а потому, что их тени удивительно, подчас пугающе многозначительны. Все это необходимо только для того, чтобы картины приобрели силу прямого гипнотического воздействия. Если же, например, края стеклянного куба будут слишком резко подчеркивать содержащееся внутри пространство, у зрителя потеряются обычные