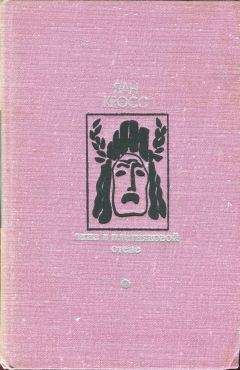— Яак? Яак, вы здесь?
Он не отвечает.
— Я видела ваши следы. По мокрому жнивью. При свете луны. А теперь — ваше лицо. Здесь.
Он не отвечает.
Но я же вижу его лицо. На самом деле. Большое бледное счастливое лицо. В полной темноте.
Я вхожу внутрь сушила. Протягиваю в темноту руки. Его лицо здесь. Горячее, шершавое, обросшее щетиной лицо. В самом деле здесь. Святой Дженнаро, откуда у меня право прикасаться к его лицу?!
Я сажусь на землю рядом с ним. Мне хочется сказать: видите, Яак, я пришла к вам. Я пришла, как сомнамбула. Я хочу проснуться. Не в том мире, откуда я иду. А в том, куда я пришла. Но вместо этого я говорю:
«Яак, я приглашала вас к обеду. Я приглашала вас к ужину…» О боже, разговор об обедах и ужинах, такой жалкий, такой фальшивый… Это и раздражает меня, и в то же время освобождает, он мне не отвечает.
«Почему вы бежите меня?» (Господи, что я говорю! Куда девалась моя воспитанность?!)
Он не отвечает.
«Неужели я так неприятна вам?» (Боже, что со мной? Где мой стыд? Я же порядочная женщина, я — жена высокого духовного лица?..)
«Или так велик ваш страх перед пробстом?»
Я сама боюсь Отто. От страха у меня отнимаются руки и ноги. От того, на что я готова. Только мой страх далеко, по другую сторону каменных стен в локоть толщиной, и этой тьмы, и пахучей толщи злаков… (Святой Дженнаро, почему я спрашиваю, не боится ли он?.. Святой Дженнаро, но в моем вопросе ведь нет ни капли, ни капли иронии или навязчивости?!)
Мне хочется схватить его за руку, чтобы за что-нибудь держаться. Он шепчет: душа моя! Как будто каждый стебелек, каждая частичка тьмы его устами шепчет душа моя…
И тут у него изо рта хлынула кровь.
— Яак… ради бога, что это?
Он не отвечает. Но я уже понимаю, что это. Я цепенею от ужаса. С огромным трудом заставляю себя оставаться спокойной. Потому что нельзя его пугать. Мне нужно что-то предпринять.
— Лягте на спину! Только осторожно! — Я пытаюсь ему помочь. — Идет еще кровь?
Он не отвечает. Лучше его ни о чем не спрашивать. Сейчас.
— Это у вас впервые? (Господи, мне же нельзя ничего спрашивать. Чтобы ему не нужно было говорить.)
Он качает головой. Изо всех сил я стараюсь вспомнить, что в таких случаях следует сделать. К счастью, я немного ухаживала за больными в приходе у Отто. Петцольд — ракверский окружной врач — учил меня: чахоточным больным прежде всего дать одну-две ложки поваренной соли. Холодный компресс на грудь. И неподвижно лежать… Но мне ведь не донести его до дому, да я и не смею… Я ощупываю себя и свою одежду. Чувствую, что платье у меня в его крови… Всемогущий боже, что же мне делать?!
— Не волнуйтесь. Не двигайтесь. Я сбегаю домой, принесу соли. И холодный компресс. Я сразу же вернусь.
Он сжимает мою руку и с трудом, шепотом произносит:
— Осторожно… Вы, наверно, в крови…
Сквозь кусты мерцают огни в доме. Я бегу через темное поле. Никем не замеченная вхожу в дом. Запираю дверь спальни на задвижку и зажигаю огонь. Господи…
Я действую молниеносно. Я не даю себе времени удивляться, что справляюсь со всем. Снять платье. Скатать. В ящик с бельем, поглубже. (Потом нужно будет положить в холодную воду. Иначе никогда в жизни не отстираешь.) К счастью, в кувшине есть вода. Быстро сполоснуть лицо и шею. Полотенце. Из гардероба — серое прюнелевое платье. Из комода — полотняные лоскутья нужного размера. Деревянное ведро, в него вылить воду из кувшина… Ни о чем другом не думаю. Только где-то далеко, в самой глубине сознания, будто глухой барабанный бой в военном лагере по ту сторону леса — глухо гудит угроза страшной беды… Слава богу, все! А соль! Отпираю задвижку и выглядываю в коридор. Вблизи и вдали звучат голоса домочадцев. Заглядываю в открытую дверь столовой — общество как раз начинает расходиться после ужина: Антон и Элеонора идут в библиотеку, Еше, стоя, разговаривает с кем-то в столовой. Я вижу его спину в коричневом сюртуке и заросший затылок. Такой неудачный момент. Никому из домочадцев я не могу показаться на глаза. Вижу, в коридоре мелькнула Анита, идущая в кухню.
— …Анита!
Она оборачивается, видит меня и бежит ко мне. Я тяну ее в спальню.
— Мама, что с тобой?..
— Ничего. — Я улыбаюсь и глажу ее по голове. — Поди, принеси мне из кухни суповую ложку и горсть столовой соли! Если сестры или кто-нибудь другой спросят, где я, скажи, что ты не знаешь. Беги скорее. Потом я тебе все объясню.
— Сейчас принесу, мама.
— Ты хорошая девочка.
Она уходит. Я снова задвигаю задвижку. Я смотрю на стенные часы с крохотными ангелочками и считаю минуты. Одна минута. Две минуты. Три минуты. Я бросаю взгляд на постель, свою супружескую постель, и вдруг до моего сознания доходит… Чувствую, что у меня горит лицо, и шея, и грудь… от холодной воды, жесткого полотенца и болезненного смущения… Пять минут. Шесть минут. Боже мой, неужели так долго принести горсть соли и ложку!
Анита пытается открыть дверь. Я впускаю ее. Пересыпаю соль в носовой платок и завязываю его узелком.
— Мама, чем ты запачкала свою пелерину?
Она приподнимает подол моей пелерины… На нем длинное, темно-красное пятно.
— Ой, вижу, правда… Я ходила в кладовую, девушки сварили краску из корней подмаренника и налили ее в ковш. Я нечаянно плеснула на себя…
— А она отстирается?
— Отстирается, конечно. — Я вешаю пелерину поглубже в гардероб, за платья. — Теперь иди, Анита!
— А ты куда?
— Я же сказала, что расскажу тебе потом. И после ужина ты меня не видела.
Анита исчезает. Слава богу, теперь все. Ах, нет. Нужно взять с собой огонь. Открываю дверь — коридор пустой. Бегом приношу из передней фонарь. Вставляю в него горящую свечу. Набрасываю черную, будничную пелерину, хватаю ведро, прячу фонарь под полой пелерины, чтобы кто-нибудь не увидел меня из окна.
По жнивью половину расстояния я прошла в темноте. Мне страшно. У меня несколько страхов. Множество страхов. Что, может быть, он умирает. Что то, что я делаю, не только долг сестры милосердия, но и грех, грех, грех! Что у меня ушло так чудовищно много времени… Наверняка полчаса. И что меня можно увидеть из окна. Потому что, когда я почти бегу — в одной руке ведро, а другой под пелериной прижимаю к животу фонарь, — вокруг меня на стерне колышется и вместе со мной движется мерцающий круг. Прямо как… Несмотря на спешку и страх, мне приходит в голову испугавшая меня и в то же время смехотворная мысль — будто я беременна светом… И твержу себе: кровотечение у него прекратилось — пре-кра-ти-лось, пре-кра-ти-лось… Его жизни опасность не грозит, не гро-зит, не гро-зит… И тут же, где-то, на более низких регистрах — pianissimo mai vivissimo[217]: я могу давать уроки пения, учить языкам, варить еду, катать белье, мыть полы, колоть дрова… (нет, этого я как следует делать не умею…), но я все же предприимчивая женщина… Я что-нибудь придумаю. Как же мне перенести его в дом? За библиотекой каморка протоплена. Постель постлана… Он хотел уйти. Потому что скверно себя почувствовал. И началось кровотечение. Где-то здесь, неподалеку от дома. Так ведь все было… А теперь он должен лежать у нас. Завтра велю вызвать из города доктора. Он подтвердит, что его жизнь уже вне опасности… Поскольку ему вовремя дали соль и вовремя положили на грудь холодный компресс… Я наклоняюсь и вхожу в сушило…
— Яак…
Я ставлю ведро на землю и достаю из-под пелерины фонарь.
Его нет.
Сушило пустое.
Я ставлю фонарь на землю и прислоняюсь к перекладинам. У меня такое чувство, будто я с разбегу наткнулась на непробиваемую и невидимую каменную стену.
Неужели он в самом деле бежал от меня?! Опять бежал… после того как прошептал мне: душа моя. Бежал, несмотря на смертельную опасность?! Должно быть, у него была какая-то страшная причина, если он сбежал… Что же это могло быть?.. Как будто я зачумленная… И вдруг ясность, как солнечный луч, пронзает мою слепоту… Не от меня, а ради меня он сбежал! Чтобы спасти меня, он сбежал! Смертельную опасность, запрещающую ему двигаться, перевесила опасность, грозящая мне. Если я тайно от Отто и всех остальных попытаюсь о нем заботиться…
Я кидаюсь прочь из сушила. Я выбегаю наружу и смотрю во все стороны. Ночь непроглядно темна. Я высоко поднимаю фонарь. Мой жалкий огонек освещает только крошечную серую пустоту под черными сводами мрака. Я снова опускаю фонарь к земле. На окружности в локоть — сжатые стебли и тени от них торчат вперемежку. Не может быть и речи о том, чтобы увидеть следы. Я выпрямляюсь. Я зову его раз, другой, полушепотом, вполголоса, потом громче:
— Яак! Яак! Яак!
Никто не отзывается, У дома начинают лаять собаки. Черный пес Антона, рыжая легавая Еше. Еще какие-то собаки, где-то дальше… Господи, я же не смею бежать домой и послать людей с собаками по его следам… Я стою с дрожащим глазком фонаря посреди поля. Я ничего не могу сделать. Ничего. Я укрываю фонарь пелериной. Господи, сделай, чтобы он не умер! Чтобы кровотечение прекратилось! Чтобы он дошел до чьего-нибудь крова… Душа моя… Господи, сделай что-нибудь! Если меня ты сам приковал к этому месту…