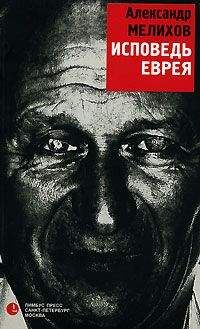прикончил свое гимназическое обучение аж с целой золотой медалью.
Потом где-то такое покрутился в Киевском университете промежду медиками и юристами. В дни буржуазного Февраля покрасовался с красным бантиком, при реакционном гетмане умотал к себе в Лубны, где его бывшие однокашники, а теперича хлопцы из гетманского куреня чуть его обратно не расшлепали. Так что в этих евойных прятках его заносило и к подпольным большевикам, в котором подполье он чуть ли не наотрез отморозил ноги. За которые заслуги он при большевиках попал даже в сам Ревком целым комиссаром труда. А когда надвинулся кровавый Деникин, то третьему Мишелю было доверено составлять почетный состав для увоза в тыл всего самого передового и прогрессивного.
Чего из всего этого там было и чего не было, проверять было некому, да и не для чего, не такая уж была важная птица третий Мишель, но лет через тридцать в своей казенной автобиографии он похвалялся, что свято бережет в районе сердца мандат Совета рабочих депутатов: любовно, писал, храню эту ветхую бумажку, как память о боевом и ярком годе моей жизни.
А после покоренья Крыма третий Мишель отправился покорять Петроград и там уж расписался так расписался, пошел шлепать книжку за книжкой. Небольшенького, как и сам он, размерчика, но до того забористые, что питерские недобитые еще формалисты готовы были взять его в свои неформальные недобитые ряды.
А чего ж нет? Вон он каково загнул, к примеру, про цигарку:
Васька Жлоб с запалу куркуля одного насмерть берданкой припечатал за то, что тот конфискованное жито керосином да известью попортил.
И смертный приговор ему читал председатель трибунальский товарищ Витос, у коего голова была вся в голых морщинах, извилинах да бугорках, как глобус школьный с накладными частями света. Про таких в тот год свирепый, взошедший на красных дрожжах терпких, мало кто слыхал, кроме десятка считаных, вроде Бухарина, чистых старых партийцев.
Часто так: засудив кого-то по долгу нови, ездил потом товарищ Витос запросто к присужденным в камеры (к «смертникам» — тоже), часами сидел, расспрашивал.
О чем?
Человека — о человеке. На века хватит!
Расспрашивал — в мысли потом к себе, в тетрадку коленкоровую с «записками».
Еще — пастор так. Только тот — для лжи, для тупого мертвого бога…
И за полчаса до Васькиного расстрела подошел товарищ Витос к женщине, прижал ее к себе:
— Надо ехать, Сима…
И женщина уже немолодыми пошерхшими губами поцеловала все пять частей света: коммунистка. Встать лишний раз не могла: ноги одной не было.
Ногу отняло гангреной от порезов шашек казацких в подполье донецком в прошлом году.
Голову целовала — глобус, говорила: «Проклятье… проклятье!»
И знали оба уже: слово это — «проклятье» — каждый раз перед чьей-то насильной смертью — прошлому, ядоносному, отравившему мирской глобус весь трупной жидкостью человеконенавистничества.
Чуешь, читателю? Уси поотравлэны, одни воны чистые, от чистоты стрэляють, а не от потравы, як другие протчие.
А в это время защитник Васьки смертного Марк Рувимович дрожью сжимает слова:
— Убить своего же — это какой-то… или подлинно мученический жест в сторону этой свирепой мужицкой массы… своеобразно христовый жест, или…
Вспомнил: Витос этот самый ласково гладил на улице чужую маленькую девочку:
— Расти, девчурка… для тебя всё… это делаем!
И поцеловал при всех. На улице.
А у Васьки перед тем, как стенку пачкать, зародилось тупое, грузное, как древность: «Год жизни отдав бы за цигарку!»
И наскреблы ему у конвойного серой тютюнной пыли, и оторвав он почти половину газеты без спросу, и, когда скрутил он последнюю «козью ножку», улыбнулись все, и Васька сам: цигарка вышла в аршина четверть. И пока Васька ее смолил, прилетело с телефонной станции одно слово, вернее два: «Харьков… остановить!»
И Васька только на другой год под Слащева голову свою уронил у Перекопа самого.
Такой вот чудовенный случай вышел с цигаркой.
Забористо, забористо начинал третий Мишель, ничего не скажешь. И большевики у него выходили забористые, с глобусами заместо головы.
Да и барышни из бывших тоже особого спуску не давали:
Клавдию Павловну увез из Питера вдруг комиссар Сербич, работать в конторе на лесозаготовках. А мать свою на ее расспросы она только закидывала желчными, злобными огрызками:
— Вам не все равно, кто хлеб теперь даст? Нищие мы, слышите, нищие!
Сербич имел большие заслуги перед революцией: первый на Забалканском у Обводного метнул булыжник в голову ругавшегося генерала, петуха красного первым пустил в полицейский участок, юнкеров у Зимнего купал с размаху в невской пооктябрьской прорве, это он там рванул по сюртукам и манишкам в Таврическом колонном своей горячей глоткой…
А в партию не приняли, сказал жиденок один: «Без стержня ты, Сербич…»
Но он свое нашел, теперь он — во кто!
А Клавдия Павловна придвигает близко к начальнику заготконторы коричневую лайку косточек-глаз:
— Ну, и плевать на их партию! У всякого своя партия. Подумаешь… спасают Россию?! Мешают жить другим! А не усмотрят, будем жить, как хотим…
И впрямь, сурьезный Званцев медленно, сухо выбрасывает:
— У нас крадут дрова.
Оскар Робертович усмехается. В тон Званцеву медленно тянет:
— Лошади кушают овес и сено, дрова крадут… Только почему «у нас»? У «них».
«Оскар Робертович Пржевецкий, адвокат» — такая карточка была когда-то в Варшаве на Иерусалимской, в Петербурге на Морской.
— Может, этот вор, что дрова теперь тащит… Чем скорей, тем лучше.
Он и пушистоусый белозубый рот тянет к руке Клавдии Павловны:
— Вы же интеллигентная женщина, Ваш муж покойный — кандидат на судебную должность…
А с ее мягких теплых губ — грубое, обрубком:
— Довольно… намучилась! Хоть прибыльно… сыта буду. И потом — его время, не забывайте!
И по ночам, после супружеских ласк, Клавдия Павловна учит Сербича танцам и манерам:
— Запомни, при всех я для тебя не Клавка, а Клавдия Павловна! Культуры в тебе мало, дружок… Ну, научу. Понял?
Сербич смотрит на ее расстегнутую кофточку и повторяет:
— Понял.
— Да не понял, а понял, эх, ты… Т-товарищ!.. Но ничего, летом двинем в Ялту, в Коктебель, как в былые времена…
И только когда Сербич уже сонно похрапывал — тогда вдруг — тоска, пустошь в душе… Плакала, ругалась по-мужски, лила в рот мадеру, закуривала сразу и папироску, и сигаретку.
Со сна кричала в ту ночь дико, ужаленно…
А Званцев подсчитывал