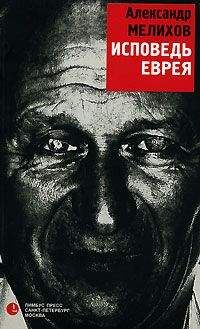Россию обратно на коленях перед обожествленным кнутом — это третий Мишель так сильно выразился насчет православного креста.
А пришибленный еврейский портняжка, наоборот, драпает от белых «избавителей» в красную Россию, где опасается беседовать на своем идише даже с кошкой. Да и русский бывший интеллигент горюет: мы-де боролись за всех инородцев, а хохлы теперича готовы задружиться хоть с ляхами, лишь бы насолить Московии, грузинцы прикидываются, будто отродясь не слыхали русского языка, но евреи и тут вышли в самые наиболее неблагодарные. Везде они: хоть в учреждениях, хоть в списках расстрелянных за валютные спекуляции. «Файвиловичи всех стран, соединяйтесь!» И они достукаются. Которые с оружием защищали их от погромов теперича готовы из того же ж винчестера побольше жидов ухлопать. Уже ж ведь и комсомольцы привязали голого нищего еврея в пустом сарае к самодельному кресту и обмазали его, я извиняюсь, половой орган красной краской. А несознательный дворник даже кошку повесил за еёную шейку только за одно то, что она понимает команды на идише: «Вон висит ваша евреечка!»
Это такое в мирные дни, когда сапожника за излишки кожи могли уже и не расстрелять. А в буйном девятнадцатом человек стоил меньше, чем евойные штиблеты с сорочкой. И все ж таки двух убийц, уконтрапупивших бывшего купца, так рассказывал третий Мишель, судит аж в целом театре весь народ! Начиная при этом с нового молебна — со всеобщего «Интернационала». Богослужение продолжается часовой речью про советских вождей, про рабочих и крестьян «всех земных шаров», про героических красноармейцев, разбивших интервентов и генералов, про возмездие Деникину за евойные расстрелы и погромы, и только под конец молебна отлетевший в высшие сферы обвинитель отыскивает пару фразочек и для мелких подсудимых: срывают-де завоевания революции, от имени революции требую расстрела!
А дальше Мальчик-с-пальчик расписывал про самое занятное: чем занимаются в тюрьме оба-два приговоренные, дожидаясь своих законных девяти грамм. Первый, могутный основательный мужик при бороде до того густой, как будто это медвежья шкура, увлекается ремонтом всяческого тюремного хозяйства — чинит нары, крышки для параш и всякий такой тому подобный инвентарь. А другой, длинный тощий, я извиняюсь, еврей по прозвищу, еще раз извиняюсь, Глиста только мается от предсмертного ужаса да философствует. На такую, к примеру, тему: чего ради наглый матрос перед евойным уводом на расстрел вдруг по-ребячьи заплакал и принялся тыкаться по камере и всех подряд обнимать. Да еще и при этом бормотать чего-то в высшей степени путаное типа примерно такого: «Да что же это, братцы… товарищи, а? Кто ж еще за революцию… а? Сам буржуев стрелял… рази можно теперь?..» А потом вдруг проявил совершенно никем не ожиданную расторопную деловитость — забрал с койки свой бушлат, все свое белье и чужую бутылку с водой. На тот свет, что ли, он собирался их захватить?
И вот еврейская, я извиняюсь, Глиста озабоченно интересуется у русского богатыря с медвежьей бородой:
— Может, есть-таки бог, или он, по-твоему… вроде на арапа?
— Доподлинно не знаю. А ежели есть он, так интерес в ём, по-моему, только для мертвых.
В окончательном итоге богатырь срывается в побег, а Глиста попадает в тифозную палату. И старается подольше не выздоравливать, не догадываясь того, что его уже помиловали. А когда его все ж таки хотят выписать, он пробирается в палату для оспенных, падает на первую же ж кровать и тычет свое лицо к обслюнявленным губам беспамятного больного, по-собачьи лижет его лицо, отыскивая гноящиеся прыщи…
Сочно пописывал третий Мишель на первых шагах своего творческого пути, сочно. Или, пожалуй, даже смачно.
Купчишкам и белячишкам он совсем даже не польстил. Но дерзким победителям было мало рисовать уродами своих врагов, они требовали еще и рисовать красавцами самих себя. И вот обаяшку-то большевика Мальчик-с-пальчик так и не сумел, а может, и не догадался обрисовать. Может, и взять, конечно, было негде. Так что, с грустью должен признаться, не зря его клеймили и лупцевали за непонимание того и сего, за искажение пятого и десятого, а на сладкое еще и за формализм. Какой же это, к черту, социалистический реализм? Глухие и резкие, взятые на черный таинственный запор брови, под которыми маленькие глаза кажутся щупленькими и серыми, но злющими козявками… Камнями под чехлами замусоленной потной кожи выступают тупые увальни-скулы… Мерцают темные и жирные, как нефть, глаза…
Нет, это чего-то не по-пролетарски! Хотя, повторяюсь, все вроде бы идеологически правильно, все беляки и купчишки — урод, я извиняюсь, на уроде сидит и уродом погоняет. Но бдительную пролетарскую критику врагами-уродами не надуешь: а где у тебя красавцы-большевики?
И понесли третьего Мишеля с оплеухи, я извиняюсь, на затрещину. Евойный мир — один сплошной человечий хлев, в котором копошатся уродцы и психопаты, это — эпопея человеческого убожества. Да, в подполье тоже кишит какая-то мерзкая и убогая жизнь, но зачем уводить читателя со светлых улиц и цехов в вонючие подвалы?! Пора наконец найти в себе силы приблизиться к стройным колоннам атакующего пролетариата!
Вон же ж какое славное литературное имя у пролетарского журнала — «Резец»! А что за какая обложка! Разудалый парняга с цигаркой в улыбающихся зубах, с лопатой и кайлом через плечо, с угла на угол перечеркнутый неотразимым лозунгом: «Рабочие-ударники идут на пленум ЛАПП с боевыми рапортами — делать литературу своего класса». ЛАПП — это была такая самая передовая ассоциация питерских пролетарских писателей.
Вон как они четко и бравурно выражаются: «Технология литературного творчества». «Классово обусловленное отношение к действительности». «Изучить технику, овладеть наукой». «Социалистическая реконструкция». «Обострение классовой борьбы». «С пролетариатом или с контрреволюцией».
Обучайтесь, бывшие! Вот вам образец — Демьян Семенов, цикл «Ударники»: «На одном из заводов Донбасса на собрании рабочих литейного цеха обсуждается вопрос о производстве в цехе». Чеканят стройный шаг главнейшие слова современности: «саботаж», «профбюро», «партячейка», «агитпроп», «промфинплан», «соцсоревнование», «ударная бригада».
Это вам не гноеточивая, старая, заштатная Русь! Тут кипит отчаянная борьба за гегемонию пролетарской литературы, широким плечом разворачивается конференция колхозно-совхозных писателей, звенят самые передовые в мире пароли для социально близких: «классовая основа», «на литературном фронте», «чистка», «примазавшиеся», «беспощадно», «дайте портреты ударников!».
Третий Мишель отыскал их аж на самом Беломорканале. В 1937-м тираж был забран и уничтожен, поскольку самые главные начальники сплошь до одного оказались врагами народа. Но, покуда они были друзьями, третий Мишель обрисовывал их с большой политической нежностью: «Его переполняет ощущение, что в нем сосредоточена сила партии, чтобы не дать в обиду до слез дорогих ему людей труда, склонившихся над станком, рубящих