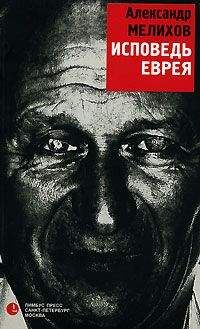уголь, опаленных пламенем горнов, задремавших после трудового дня над учебником механики».
Чекисты — все до последнего славные парняги, простые искренние души, но, если надо, изучают строительное дело так, что затыкают за пояс инженеров-вредителей, и те постепенно перековываются: они-то думали, что им противостоят грядущие гунны, грядущие хамы, а перед ними с наганами культурнейшие люди, желающие того же, что и они: строить, применять свои знания на практике. И вчерашние вредители достраиваются до орденов Ленина.
Даже блатные приносят с воли, что преступности больше нет, все хазы и малины разгромлены, надо впрягаться в общее дело. И они с пилами и кувалдами в руках впервые в жизни ощущают счастье быть кому-то нужными, быть участниками большого дела.
Но третьему Мишелю тоже было маловато воспеть ростки нового — нужно было еще и дотоптать ростки старого. И в год злодейского убийства товарища Кирова, за которое бывшие интеллигенты поплатились в крайне массовидном порядке, третий Мишель в предисловии ко второму изданию первой книги эпопейки «Девять, кажется, точек», с годами разросшейся в эпопеищу «Крушение империи», очень до крайности возвышенно воспел уничтожение отсталой старорежимной интеллигенции: «Октябрь — это начало конца старой, идеалистически мыслившей, „традиционной“ русской интеллигенции»; «Чтобы уметь ценить настоящее, надо презреть прошлое, а чтобы так чувствовать, надо это прошлое (не совсем еще добитое: например — „Промпартия“!) — знать».
Добивать побежденных — в этом была глубокая политическая мудрость партии большевиков. Подпевать победителям — в этом была большая житейская мудрость. Но третий Мишель разглядел в этом добитии еще и поэзию. Он не побоялся культурно процитировать самого Саади, был такой азербайджанский писатель: «Неужели надо восстать против прекрасного солнечного света, потому что летучие мыши его не выносят. Пусть лучше тысячи из них ослепнут, чем ради них дать померкнуть солнцу».
Большевики — солнечный свет, интеллигенция — летучие мыши. Нет, и косорукие интеллигенты иной раз на чего-то годятся — пролетарию так красиво не завернуть. Жалко только, что размякшие наследнички тогдашних большевиков оказались не такими твердопламенными. Взяли да признались, что вся ихняя Промпартия была чистой, я извиняюсь, брехней. А ведь так все было политически мудро задумано: самых знаменитых инженеров перестрелять, раз уж они и сами признались, что осушали болота ради удобного передвижения будущих подлых интервентов. А до кого очередь еще не дошла, пущай подожмут свои отсталые хвосты перед напором организованных пролетарских рядов.
За такую политически зрелую позицию третьего Мишеля вроде бы должны были очень сильно приголубить и вознаградить? Не тут-то было! Оказалось, то не вскрыто, другое не отображено. Не вскрыто, что буржуазная интеллигенция является агентурой международной реакции, не показана победоносная борьба наступающего пролетариата с гибнущей, бешено сопротивляющейся буржуазией. В общем, «вредная книга». Вместо роли народных масс показаны интриги правящих кругов. Роман объективно меньшевистский. Самый яркий персонаж — революционер, продавшийся в агенты царской охранки. На что этим фактом намекает роман? Это чего — типичная фигура?
«В большевистском лагере сосредоточено все самое чистое и светлое. Но, к сожалению, профессиональные революционеры написаны суховато, а самой яркой фигурой оказывается филер. И это создает определенный идейный перекос».
А рядом, между прочим, сажают и шлепают и за куда более меньшее. Точнее, вовсе, можно сказать, за просто так.
Третий Мишель кинулся отмываться от пятен, которыми он уже был запятнан с головы до каблуков.
И вот в 1939-м он выдает на гору идейно выдержанную пьесу «Чекисты».
Очень политически правильно выражаются тамошние великие гуманисты.
Дзержинский. Уничтожить десятерых, чтобы защитить жизнь ста тысяч — это ли не самая человеколюбивая арифметика?
Сталин. Новая социалистическая Россия больше никогда не будет бита! Никогда! Русский народ велик и могуч! Народ! Но его побед всегда боялись его собственные цари, помещики, буржуазия: а вдруг он их самих сбросит со своих плеч?
Но это же ж все ж таки пьеса, худ., так сказать, произведение. Вожди, конечное дело, и должны выражаться наподобие плакатов. Но там путается под ногами еще и поэтишка Корнев. Так этот самый Корнев выражается выдержками из бывшего поэта Микулы с «Сумасшедшего корабля». Каким его комически обрисовывают разные евойные знакомцы. Этот поэтишка пробился к товарищу Дзержинскому с клеветническими жалобами: чекисты-де его ограбили!
Корнев. Ограбил ваш человек. Стихотворца Руси-матушки ограбил. Перстни старинные, иконы древние, письмена радонежские. Живу смирно, много ли мужику нужно? Сыскал я клетушку-комнатушку и живу скворцом тихим. Заходи, голубь, осчастливь. На Морской, за углом, клетушка. «Отель де Франс» называется. Стихи почитаю, душой русской писанные. Ах ты, птица, птица райская, дребезда золотоперая… А хочешь Гете прочту, Верлен сыщется. Маракую малость по-басурманскому. Маракую малость. Только не лежит душа. Наши соловьи голосистей будут… Ох, голосистей!
Микулу к тому времени уже расшлепали, так что ему более хуже не будет, можно и посмеяться. Тем больше, что его уже и в томской ссылке выпущали из тюрьмы вследствие паралича половины его тела и старческого слабоумия. Это в пятьдесят-то с небольшим.
А он в своих письмах все причитал по-привычному:
Привезли и вынесли на руках из телеги в мою конуру. Я лежу… лежу. За косым оконцем моей комнатушки — серый сибирский ливень со свистящим ветром. Здесь уже осень, холодно, грязь по хомут, за дощатой заборкой ревут ребята, рыжая баба клянет их, от страшной общей лохани под рукомойником несет тошным смрадом…
Умел, умел бить на жалость.
Я сослан в Нарым, в поселок Колпашев на верную и мучительную смерть. Она, дырявая и свирепая, стоит уже за моими плечами. Четыре месяца тюрьмы и этапов, только по отрывному календарю скоро проходящих и легких, обглодали меня до костей. Ты знаешь, как я вообще слаб здоровьем, теперь же я навсегда загублен, вновь опухоли, сильнейшее головокружение, даже со рвотой, чёго раньше не было. Поселок Колпашев — это бугор глины, усеянный почерневшими от бед и непогодий избами, дотуга набитыми ссыльными. Есть нечего, продуктов нет или они до смешного дороги. У меня никаких средств к жизни, милостыню же здесь подавать некому, ибо все одинаково рыщут, как волки, в погоне за жраньем. Подумай об этом, брат мой, когда садишься за тарелку душистого домашнего супа, пьешь чай с белым хлебом! Вспомни обо мне в этот час — о несчастном бездомном старике-поэте, лицезрение которого заставляет содрогаться даже приученных к адским картинам человеческого горя спецпереселенцев. Скажу одно: «Я желал бы быть самым презренным существом среди тварей, чем ссыльным в Колпашеве!» Небо в лохмотьях, косые, налетающие с тысячеверстных болот дожди, немолчный ветер — это