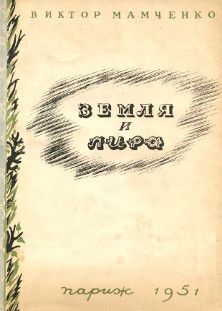ВИКТОР МАМЧЕНКО. СОН В ХОЛОДНОМ ДОМЕ (Париж, 1970)
Ночных сверчков опять с цикадами не путай
Цикады ночью спят, им ночью — все равно,
А в сердце, может быть, как в пропаде темно
И кажется земля тяжелой мертвой грудой.
Живут цикады днем. Растопленной смолою
Горячий сосен сок пьянит до песен их;
Не надо им тогда веселых глаз твоих,
Не надо слез твоих, ночей со звездной мглою.
Они живут в раю. Им нас совсем не надо.
И нам они — к чему? Представь себе, что вдруг
Земля горит, беда, что все — как ад вокруг,
А мы с тобою райского вкушаем сада.
1946
Светом солнечным пьянели
Золотистые глаза,
Неподвижны были ели
И морская полоса,
И цикады жарко пели.
Слов чудесных я не помню —
Не они сомкнули круг, —
Я глаза сияньем помню,
И таким волненьем вдруг,
Что закрыли солнце к полдню.
Помню тоже: сердце билось
Под рукою об белье,
А потом оно открылось
Грудью темною ее, —
Будто так оно приснилось.
А потом прикрыла очи,
И была она тиха,
Как звезда июльской ночи, —
Вся в печали без греха,
Тишины любовной кротче.
Вновь шумели в знойной лени
Море, сосны и земля,
И вязало время тени,
Будто Парка, оголя
Ее детские колени.
1946
Тяжелый дом, а дальше — холмы, горы;
Прованса день уходит в дальний свет;
Прохладе солнечной раздвинул шторы
Привычный жест, как было сотни лет.
К приходу вечера девичьи зовы
Спешат сказать — и чем душа полна;
Повторные слова взволнованны и новы,
Как в море миллиардная волна.
Старушка черная под черной шляпой
Сидит и спит у солнечной стены,
И ловит тень котенок мягкой лапой —
Кривую тень старушечьей спины.
Старушка спит, ей снится в кухне лужа
Когда-то пролитого молока,
Письмо с войны (тогда живого) мужа,
Иль гнев его и темная рука.
А может быть, теперь, в минуты эти,
Легчайший сон летит по городам —
Куда ушли ее большие дети,
Ступая прочь по сердцу и годам.
Идут быки с рожном большим на выях,
Их очи — тихие, а вечер — вот уже
Об землю бьется на прохладных крыльях
В огнях зари, на звездном рубеже.
1949
Последний знак, и вот скользят огни,
А в сумраке — твои глаза одни;
Тяжелый поезд медлит все, пока
В прощанье бьется жаркая рука.
Уйдет он прочь под арками мостов,
Но — звездный путь ему, счастливых снов!
И дней — с утра — цветущею землей,
Людей ему — веселою семьей!
Шумит в огнях Париж ночной, глухой…
Ну что, дитя, уехал милый твой;
Чего ж ты ждешь, и плачешь, как во сне,
И сон — не твой, не в розовой весне;
Должно быть, поезда нещадный стук
Об сердце бьется, сердце из-под рук
Летит за ним, летит как счастье дней, —
Подстреленным полетом лебедей.
Скажу тебе о днях. Пройдут они.
У жизни будут дни — другие дни.
Не может быть, чтоб в сердце навсегда
Жила, была горячая беда.
1949
Здесь редок снег, здесь только зимний холод,
Здесь снег бранят и грязью и чумой,
И парижанину подснежный город
Давно не мил, и он спешит домой.
Люблю я снег полночною зимою
В латинских улицах и тупиках,
Когда века в снегу идут со мною,
Спешат со снежной музой на руках.
И тишина звучит тревожным боем
Курантов, вдруг очнувшихся в снегу…
Мечта со мной, нам весело обоим,
Молчит она, молчать я не могу;
И вот шепчу я (с русским удареньем!)
Слова чужие страсти и любви, —
Французским меряю стихотвореньем
Печаль и радость русские в крови.
Печаль и радость русские в крови.
1957
Под небом Парижа —
случайные встречи
играл на гармошке
тот юнга в порту
И темные очи,
и детские плечи
казались под солнцем
в любовном поту.
Вокруг нас теснились
и шхуны, и лайбы,
и полдень Туниса
дремотно дышал,
и якорь огромный
тяжелые лапы
раскинул на пирсе
и шхуну держал.
Пустынно и море,
и порт был безлюдный,
мальчишка играл
и смотрел на меня,
и час был высокий,
безоблачно трудный,
и солнце мерцало,
всем миром звеня.
Там Индия где-то,
а там — Заполярье…
Куда же идти нам
в тугих парусах?
Но юнга вдруг вспомнил
о плачущей Марье,
припал вновь к гармошке,
под солнцем в слезах.
1963
Рыбак ушел в нехожую погоду —
Чтоб море было без луны и звезд, —
Приморскому покорен небосводу,
И ничего, что ветер бьется вхлест —
Норд-остом бьется, парусом играет,
А чайка в море — будто умирает.
Его жена, на каменистом пляже,
Как будто не плетет, а вяжет
Худую сеть, разодранную бурей,
Сейчас её дитя, играя ляжет
И на сетях спокойно вдруг уснет.
Стрижей косых неистовый полет
Сшибается под крышею понурой
Поет рыбачка песенку простую,
Следя за парусом, белеющим волной.
Но вот и ночь. И вновь тугую тую
Терзает ветер за ее спиной.
На западе — пожарище заката, —
Природы чудной ветреная плата.
К тугой груди прижав дитя, рыбачка
Идет к соседке — душу отвести:
Какая ночью в море рыбьем качка,
Как трудно прорвы в неводе сплести,
Как рыбу надо во-время продать,
И с мужем в море жить и умирать…
Над холмами приморскими светло
Звезда вечерняя пропала в туче,
Сгребает ветер тяжкою метлой
Кипенье волн, взлетающих всё круче,
И темная рыбачка смотрит в море
И, как влюбленная, не верит в горе.
Пришел рыбак под утро. Парус влажный
Он крепко с мачтой шкотами связал.
С уловом он — как если б счастье взял, —
Умчался вдаль куда-то ветер страшный…
Он в дом вошел, и сонную улыбку
Жены схватил, как золотую рыбку.
Сколько радости было от снега,
Он всю ночь будто шелком шуршал;
За окном моим тропкою бега
Узкий след, как от серны, лежал.
Был любим ею я до рассвета;
Время мчалось дорогой земной,
И дышала она, будто Лета,
Легкокрылой бедою и мной.
Как же так вдруг бежит, убежала,
Тяжкой дверью прикрыла себя,
А рассвет, без конца и начала,
Леденеет, беглянкой слепя.
Весь день тот был как счастье в тихом слоге
Зеленый свет простерся далеко,
Сжимала руку жарко и легко
Весна моя, веселая в дороге,
Чтоб всё неистовым казалось мне,
Как власть любви в невероятном сне.
И тихо бились в паутинке света
Глаза ее, бесстрашные в себе,
И не казалось мне — в такой судьбе, —
Что всё пройдет, как полыханье лета,
Как осени угрюмые дожди,
Чтоб вдруг зимой проснуться от «Не жди!»
Был праведный от часа и до часа
Тот день свободы — вечности часов,
Мерцала стрелка золотых весов
В руках любви, как солнечная масса.
Ах, жаждой полная весна моя.
Куда же ты… Так жаждой напоя!
Стоит зима у моего порога,
А ночь тиха, а ночь совсем не спит
Как тот замученный бессонницей пиит
Для трудной вечности любви своей
Средь Елисейских розовых полей.