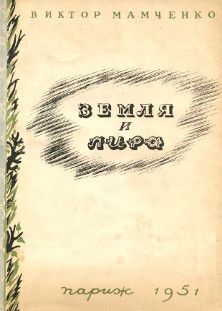Снежная оторопь
Снежная оторопь степью курганною
Крылья раскинула в дальний полет;
Солнце февральское розою алою
Вспыхнуло в окнах и будто поёт.
Дева высокая, убранно белая,
Снежною пылью стоит у окна;
Мать всё поёт, у стола что-то делая,
Плачет о деве — как дева бледна…
Что же в окно, среди снежного топота
Снежного чуда и детского сна,
К мальчику тихо из вьюжного пропада
Солнечным тополем бьется весна!
Дивная песня метелится ветрами,
Жарко взлетает, как искры в огне,
Смотрит в глаза его буднями светлыми,
Инеем звездным мерцает в окне.
И не уйти от тревоги и радости, —
О как родная рука горяча!
Мальчику страшно от песни и жалости —
У материнского плачет плеча.
Больные тополи Парижа
На тротуаре — как в бреду,
В угаре, листьями колыша,
Они на родину бредут.
И потрясает дымный грохот
Их тополиную тоску,
В которой слышен речки рокот,
Несущей солнце по песку.
Квартальный ветер неумелый,
Пройдя предутренней волной,
Тревожно пух роняет белый
Над звонко-каменной землей.
Над крышами поток весенний
Прохладой розовой летит,
Как чудный сон стихотворений,
Еще не павший на гранит.
У моря Черного я помню Буг:
Он тих и стар у летнего порога,
Но осенью, как отрок-недотрога,
На море грозное кидался вдруг.
Вдали — и мост, в Варваровку, понтонный;
Чуть-чуть по-эллински он музыкой звучал;
По нем стучал натужный топот конный,
А Николаев — Ольвией скучал.
Варваровка! Не скифский ли там стан
Гонял коней для эллинской заставы?
В земле, поглубже, — вот Дианы стан,
В руке — стрела охотничей забавы;
В глазах ее и мужество, и робость…
Историей весь берег перекрыт!
Археология, божественная пропасть,
А сад в цвету, весь пчёлами покрыт!
И вот, как в дни «Крещения Руси»,
Раздетые аттические боги
Потоплены в волнах; пощады не проси;
Об лодку мрамором их бьются ноги…
А белые акации цветут
В неистовом и теплом аромате,
Вот полнолуние, и вот поют
Все соловьи в сиреневой прохладе.
Росисто утро. День настал, пришел,
Плечом широким Буг коснулся моря,
Гудит буксир, он из породы пчёл,
Идет, дымит, с волной высокой споря.
Что так слабо бьется сердце
С мертвой силой на земле —
Вот на проволочной дверце
Та же кровь, что на крыле;
Или воля птичья ниже
Всех прославленных свобод,
Или песнями обижен
Весь березовый народ;
Или птице быть пристало
В томноте да на шестке,
Чтоб торжественнее стало
Пенье в клеточной тоске;
Ходят люди среди клеток,
Тычут пальцем всем в глаза;
Водят люди своих деток,
Чтоб глазеть на голоса.
Судья нацист бандиту дал топор,
Чтоб палачом был русской партизанки;
На русскую смотрел, как смерть, в упор,
На раны черные её и ранки.
Тюремный двор — застенок палачей;
Вот щелкает ефрейтор каблуками;
Не видит он живых ее очей,
Кровавый лик с кровавыми губами.
Ах, Вики, Вики, как ты хороша, —
С тобою Родина, весь мир с тобою!
Удара ждешь, едва-едва дыша,
Но вся душа твоя зовёт всех к бою.
Чудовищен нацистов балаган,
Вот эта плаха, — как «почет принцессе»…
Известный Франции Гаврошка-хулиган
Стоял с тобою рядом на процессе!
Палач бандит, ему под стать — судья
Вели игру в кровавом исступленьи;
Был проклят час предутреннего дня
И к плахе аккуратные ступени.
Бессмертье здесь, оно ведь — навсегда,
Таких, как ты, народ не забывает:
Крылатым воином — когда беда,
И смерти мертвенной герой не знает.
1944
Буря снегом замела
Две избушки на откосе;
Будто льдины от весла —
Тучи лунные в морозе;
За откосом — мутный свет,
Вдоль избушек — волчий след.
Два соседа — два врага —
И судили, и рядили —
Как делить им два стога,
Что под снегом звездным стыли.
Помирились всё ж в Сочельник
И пошли за водкой в Ельник.
А когда домой пришли —
Много пили, много ели,
Табачок примерно жгли,
Друг на друга не смотрели.
Ведь привычно было так —
У соседа брать табак.
Вот Иван и говорит:
«Ты свою жену не знаешь,
Марья за меня сгорит, —
Ты жену, ведь, не ласкаешь»…
И Степан с Иваном пьют,
Об ладонь ладонью бьют.
Ночи лунные прошли,
Марья Ваню отравила,
А потом, весной, нашли
Марью: умерла на вилах.
Что ж, Степан ее убил —
Муж, который не любил.
Так делили два стога,
Что казались лишь стогами;
Боги были в сапогах
Эллинийскими богами, —
Мужики российской были,
Мягче воска, проще пыли.
В пышных храмах торжество:
Где-то в небе — Рождество…
На земле бесснежный лёд, —
Ночью скованный блестит,
Ветер северный свистит
Время движется вперед
Никому никто не верит
Не стучись ты в эти двери, —
Не отворят никогда
Отойди опять во мглу
И замерзни там в углу.
Братство может быть приснится
Будет сердце счастьем биться
Умереть, ведь, не беда.
Слезы страшные помогут
Дописать живому богу
Мертвый образ Рождества.
Плачет тихо над собой
Ночью дева: друг не любит.
А по саду молодой
Бродит месяц, — не отступит.
Не отступит он, такой,
От влюбленных, кто с тоской,
Чтобы влиться в очи;
Чтобы плакал и любил,
Кто забвенье жарко пил
В росах белой ночи.
Дева девочкой была,
И была вся — легче смеха;
До зари с луной плыла —
С милым, — милый не помеха.
А теперь вот говорят,
Что глаза ее горят
Болью и позором;
Говорят еще — с тоской,
Жизнью не живет людской,
Бредит всяким вздором.
Всё б ничто, да только как
Встретиться с любимым!
Вновь любилась бы — вот так! —
С огненным и льдинным.
Вот совсем уж побледнел
От мечтаний и от дел
Месяц, с ним и дева;
Утро вспыхнуло зарей,
Сгинул месяца герой,
Всходит солнце гнева.
Старуха едет. Едет. Боже мой,
Ее девчонкой видел я когда-то,
Всё трудное мое ей было радо, —
Цветущей яблоней была земной!
Теперь — старуха едет, губы проглотив,
И почему Чайковского мотив
Всю душу жарко вдруг мою так гложет
Ах, Родина, твой Лебедь у рояля, —
Виденье детское, всё в белом существо!
Но вот — старуха. Всё вокруг мертво,
А я — как проклятый в вагонных далях.
Одни слова, слова. О нет,
Любви Твоей как жизни верю.
Но жизнь — не радостный ответ.
Да, я входил и этой дверью
В прекрасный мир очарованья,
Кружили голову признанья
Высокой юности моей;
Я верен был и верил ей.
Бывает так — что страшно вдруг:
Вот этот мой красивый друг,
Идущий к нам походкой важной
Идет к Тебе. Улыбкой влажной
Лицо Твое пылает горячо,
Возможному вы улыбнулись оба,
Меж вами, да, мое плечо…
Нет, не клянись любить до гроба.