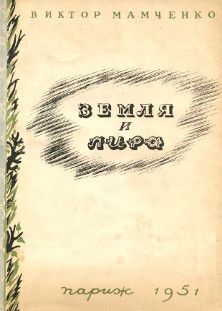Еврею
Мерцая солнечным виденьем
У скал горючих и воды
Под снежно-розовым цветеньем
Растут Израиля сады.
По городам простерты сети
Цивилизаций, но вблизи —
Все те же ослики, и дети
Шумят в божественной грязи.
Ресницы их пречудно длинны
И взоры древние горят, —
О них библейские былины
Псалмами в храмах говорят.
На холмах ночь в прохладе млеет,
Она — как сон веков святых,
И ветер звездный тихо веет
Для добрых, мудрых и простых.
О, близок день такого света,
Когда народы — твой и мой,
По слову вечного Поэта, —
Сольются радостью земной.
Но помни, помни, к испытанью
Еще не кончены пути:
В дороге к счастью и свиданью
Нам надо братьями придти.
I. «Много золота, много свет…»
Много золота, много света,
Будто Боттичелли в раю;
Солнце огромного лета
У сердца стоит на краю.
О чем ты мечтаешь, неловкий, —
Нет, ведь, покоя нигде;
Моря горизонт ломкий
Птицами блещет к беде.
Может быть так, как и ныне
Здесь, в отдаленных краях,
Ты — в человечьей пустыне, —
Без любви, — на тупых остриях.
II. «Прохлада и солнце, и моря черта голубая…»
Прохлада и солнце, и моря черта голубая.
Друг мой, довольно, нам незачем дальше идти.
Скалы и солнце. Во сне лишь, совсем погибая,
Счастье от боли в такое сиянье летит.
Тихое, страшное, бедное сердце, слепое —
Может и больше неверную землю любить,
Только забыть в голубом и высоком покое —
Что душу за други… это — тебя погубить.
III. «Прозрачно всё, воздушно и легко…»
Прозрачно всё, воздушно и легко,
Скользит вдоль неба парус осиянный,
За ним весь мир воздушностью влеком,
Простерт и день по солнцу далеко,
Как будто медленным он счастьем пьяный.
Не веришь, нет, я знаю — ты устал,
Ты в золотой свободе не уверен;
О, как прекрасны мертвые уста —
Не правда-ли — там, где-то, у Христа,
Или у женщины, которой ты неверен.
Прозрачно тень касается лица,
Прозрачно сердце голубой природы;
Сольешься в ней, как крайности кольца,
Забудешь всё, забудешь до конца
И совести мучительные роды.
О любви мне говори —
Как тебя любили, —
От зари и до зари
Счастливы ли были?
Говорила ли ему
О любви последней,
Так же верила всему
В синий вечер летний?
Виновата ли ты в чем,
Что любовь любила? —
За твоим была плечом
Вся земная сила!
Как же ты любила вновь,
Навсегда прощалась,
Или древняя любовь
Болью оказалась?
Не казалось ли тебе,
Что любовь такая
На костер к своей судьбе
Уведет, толкая?
Ледяная — и живет
Та судьба кострами:
Не иди, когда зовет
Легкими перстами.
Уснувший порт, гитара в темноте
Все итальянские мотивы вторит;
А Млечный Путь в безмерной высоте,
Срываясь звездами, над морем спорит —
Что глуше в легкой тишине,
Что глубже в полной вышине.
Ночное Тютчева не знать нельзя.
Нельзя не жить Арагвенной печалью —
«На холмах Грузии». И вот, скользя,
Пришла печаль, и шелковою шалью
Сжимает туго сердце и плечо,
Которому от сердца горячо.
Распяты в небе реи кораблей,
Высоко подняты морские тени;
А юнга все поет про журавлей,
Распластанных в волнах морской кипени,
О том, что дева, будто сгоряча,
В любви сгорела тихо, как свеча.
О сколько звезд над Африкой твоей!
Их может быть на Черноморье столько —
В тиши, в ночи, средь жатвенных полей,
В сверканье росном, где колосья стойко
Так бурно в грозах вынесли свой рост,
Где звездный всплеск божественен и прост.
Теплом согрет, еще теченьем дня
Так щедро пролитым в долинах Керуана,
Вдруг вижу я, как Лермонтов меня
Касается; его мерцает рана
Под звездами — горячей и земной,
И кто-то в звездах плачет надо мной.
«Вот опять загорятся пески…»
Вот опять загорятся пески,
Замаячится море огнями,
Будут звездные всплески
Пьяными.
А рядом, в пустыне,
Где не видно солнца в яркости,
Новые в ночь остынут
Кости.
Серенадная ночь заглушит
Образы, сонно, на крышах.
И будет медлительней шаг
Души.
Луна, подражая кубистам,
Фантазию встретит на городе,
И опять я один из ста
Буду голоден.
Будет снова мята постель,
От придуманных дерзостей,
Буду силиться писать нежности,
Стихи.
Захочу опять искриться,
Как на пальмах самум,
Чтоб не узнать самому
Муть лица.
И опять окрылено, вдруг,
Перепутаю райские ценности
И устану усталость нести
К утру.
Сборник стихов. 1930. Выпуск III.
«И будет день тяжелый и святой…»
И будет день тяжелый и святой,
На желтых листьях осень станет биться,
И ветер, стиснутый дождливою водой,
Приблизить резко огненные лица.
Сплетется мост добра и зла,
Настанет бредь беснующих молений
И разума — в знакомой лени —
Звездой взмятется синяя зола.
А телу жуткая миражится печаль
— В высоком ястребе подстреленный полет —
Покорные потери на плечах,
Легчайший взмах и недолет.
Стихает бред
Нежности, слов и зла;
В добре
Окаянной повисла
Тоска.
В скате
Стиснутых дней
— Песков
Сковано
Все, что обиднее.
Любви звонкое горе,
Напряженной ночью в пустыне
Стынет
В горле.
Необыкновенные круги
Благополучия: —
Круче,
Лунного моря на скалах,
Падают руки.
Берложной убыли, —
В нетерпеливом оскале,
— Губы.
И умирает
Святое противоречие
Без встречи
Рая.
Звенит тишина в виске,
Стынуть в небе образы,
Дымятся звездные росы
В песке.
«Числа» 1930, № 2–3
«Загорятся упорно глаза…»
Загорятся упорно глаза,
Метнутся сполохами души
И тяжесть видений сдушит
— Голоса.
А потом, исступленные сны
Звездопадами в черное море,
Будут вязнуть криком лесным
В горе.
Обползет круг в тишине
Равноценность, с правом единым,
И повиснуть крылья льдинами
В вышине.
К небу, опять, побредут
Без дорог — навзничь — на горы,
Впереди человек на кресте и в бреду
Загорится.
Ожидать будут вновь по ночам
Напряженного, тихого шепота
И земного, берложного пота
Палача.
«За горой залегла последняя ночь…»
За горой залегла последняя ночь,
С красной луной недвижной в зените
И шуршать облака паутиновых нитей;
На осенних кустах умирают мучительно розы,
Море рвется меж скалами в звездные клочья.
В памяти образы холодной земли, —
Человеческой жизни любовные взятки,
И слов искупленья торопливых и зябких,
И Бога их звонкие ветры мели,
К ангелам входа, глухонемым и безумным…
Человеческий мост из сплетенных людей,
Прикрепленный к райскому дереву знанья! —
— Стонал и метался под тяжестью сна
Веры, любви и надежды, и тяжестью тела,
Об дерево бился — паденьем в огонь лебедей.
«Числа» 1931, № 5