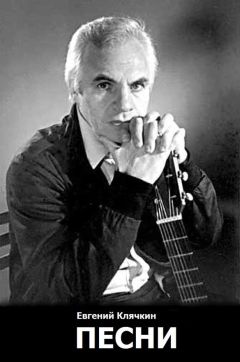Последний тост
Посвящается Сене Фрумкину — с любовью
Дружище, как-нибудь!
Авось — до встречи.
И тот, и этот путь
едва намечен.
Кто знает,
где подловит нас судьба!
Нальем по ободок
и сдвинем руки
за прямоту дорог
и стих упругий,
за белизну
последней из рубах.
Мы живы, черт возьми!
И это — чудо.
Нам в спину дышит мир.
Он наш покуда,
и мы в нем —
не последнее звено.
А если небеса
решат иначе,
то каждый знает сам,
что это значит…
А впрочем,
нам уж будет все равно.
Звучит последний тост,
и поднят кубок.
Мужчина — это тот,
чей шаг — поступок,
а за поступки
надо отвечать.
Ну что ж, мы, отвечая,
поседели,
а нынче отмечаем
выбор цели.
Как говорится:
главное — начать.
Как говорится:
главное — начать.
Некоторые из моих друзей уезжали, и Сенька, он добрый был человек, очень. Хочу, чтобы ему было там хорошо. Ничего не слышал про него: как он устроился, что… Пусть им всем повезет. У нас всем одинаково не везет, а там может не повезти, а может и повезти. Мы люди равные, они — не совсем.
1989
Зачем меня, как девочку,
ты рядышком сажал,
по очереди пальчики
зачем мне целовал?
В какие ж игры, солнышко,
осталось нам сыграть?
Повыдернуты колышки,
и ты сказал — «пора».
Желанненький, послушай —
ах, быть, ах, быть беде —
последняя игрушка —
зайчик на воде.
Перебегают зайчики,
веселые, как ты…
Ах, мостик, не качайся —
я у перил крутых.
День как день —
за ним неделя как неделя,
свет да тень —
и вот полгода пролетели.
Год как год —
да что за песня, в самом деле?! —
жизнь как жизнь!
Как ни оглянешься — ползком бежит,
и время тянется летя,
шутя,
оно переползает даты,
и «вчера» ушло в «когда-то».
День плюс день —
«два» пишем, а в уме «четыре».
Всех друзей
года куда-то закатили,
нет людей —
фигурки плоские, как в тире, —
метр на два,
а в глубину — как на песке слова,
и контур тает на глазах,
слеза
его смывает, может статься,
и уже не достучаться.
День, ты где,
когда все абсолютно ясно,
день надежд,
и нет причин, чтобы бояться.
День людей,
день гордости за наше братство,
день страны,
единственной, которой мы нужны,
день флагов бело-голубых,
любых
на голубом бездонном небе,
день, не помнящий о хлебе.
Дыханье зала — ровный гул;
блестит под парусом залив.
Какой бы ни служить красе,
каким бы ни сверкать талантом, —
мы будем все равно в кругу:
в орбите спутника Земли,
или в кругу своих друзей,
иль в круге от настольной лампы.
С трудом припоминаем мы
далекой юности заряд —
казалось, он неукротим,
а вышло — был неукрощенным.
И вот в преддверии зимы
встает спокойная заря —
хотим мы или не хотим, —
но по иным уже законам.
И наступает перелом,
и пелена спадает с глаз.
Уводит время за порог,
так хорошо знакомый людям.
Оно нас не уберегло:
увы! окончен первый класс.
Мы переходим во второй,
и в нем нет места для иллюзий.
Хотелось раздавать долги,
но катится за годом год.
Хотелось самых крупных дел —
да мало ли чего хотелось!
Но к центру сходятся круги,
все уже круг твоих забот.
Мы понимаем свой предел,
и значит — наступила Зрелость.
Мне говорят: Ну что ты здесь торчишь?
Все, что чего-то стоит, — все уехало,
пока, как вольный бард хрипел насмешливо,
открыты Вена, Лондон и Париж,
пока вверху не прокатился гром,
пока лишь закипает раздражение,
и слабый ветер дует в отдалении,
пока зависло над листом перо…
И в самом деле — чем не шутит черт!
Представится — и сразу же поверится:
неоновые буквы над Америкой
и над Землей торжественный аккорд.
И вот уж диск мой золотом горит.
В какой-нибудь банановой республике
мы всей семьею греемся на пузике
и созерцаем местный колорит.
И вспомнится, как давний тяжкий бред,
та очередь в окошко за зарплатою —
рубли и трешки падали заплатами
на ветхий продырявленный бюджет.
И это было небом. А земля?
Какие соки нас поили силою?
Что выпрямляло ветви над Россиею
и заставляло думать: все не зря?
Какие-то, ей-богу, пустяки!
Глаза, воздетые с тоской и верою,
сплетенные с натянутыми нервами,
как две спасенья ждущие руки.
Да в чавкающей жиже — ряд камней.
И эти два — за низкою оградою,
что днем и ночью на сердце мне падают,
повернутые надписью ко мне.
И холод над холодною Невой,
и взгляд на шпиль уколом отзывается —
о, как это, скажите, называется?!
Мне врут, что я чужой, а я здесь — свой!
Мне говорят: Ну что ты здесь торчишь? —
Зачем мне Вена, Лондон и Париж…
Та же линия, что и в «Прощании с Родиной», только шесть лет спустя. Результат почти тот же. 1973 год. Спел «Прощание с Родиной», пять лет ничего не пел в Ленинграде после отеческих вливаний со стороны Комитета. 1979 год. Спел «Почему» в Доме офицеров. Два года ничего не пел после наставлений со стороны общества «Знание». Хотя в песне написано: «Почему ты остаешься?» Но дело не в тонкостях, дело в теме.
1989
Черняв и напорист,
предчувствуя скорость
и бросив кудрявый еврейский дымок,
буксир обдал сажей
ленивую баржу
и в узкое русло ее поволок…
Закончится вскоре
пора аллегорий:
в руках полицая — всамделишный кнут.
А мы тут серьезной
не видим угрозы
(как будто с кого-то другого начнут!).
Но вот уже близко
и ватник, и миска,
и кто-то «шьет дело» любому из нас.
Вы крикнете: «Братцы!
Пора разобраться!..»
Но крикнете поздно, а надо — сейчас.
Ведь нашу Россию
с гербами косыми
на этом же самом, на горьком пути
до полного сходства —
всеобщего скотства —
однажды уже удалось довести.
И все начиналось,
как самая малость,
потом затыкались горластые рты,
потом — те, кто тише,
потом — кто, как мыши,
пока до стерильной дошли чистоты.
Не будем, как дети:
«Теперь — невозможно». —
Возможно! — покуда все спины в дугу…
И трусость, и подлость —
всегда осторожны:
в них плюнешь — утрутся. И вновь — ни гугу.
Поскольку я двадцать лет был не у дел, у предержащих в этом мире должно уже быть какое-то этому объяснение. Конечно, «Предупредительная песня» впрямую объяснение тому.
Мы читали Солженицына в рукописи. Мы слушали Галича… Стали наступать нам на пятки, проверять… У одного — обыск, у другого — обыск, этого отстранили от работы со студентами, другого в партком вызвали… Так появилась песня.
До всякой «Памяти» мне пришло в голову, что чего-то многовато евреев делали революцию! Поэтому дымок этого буксира, тянущего баржу, был именно кудрявым, именно еврейским. Мне задавали такой вопрос, но надо признаться в слабости: я не отвечал на него впрямую, как сейчас. Говорил: «Аллегория, буксир… Почему еврейский? Черт его знает, курчавенький такой…»