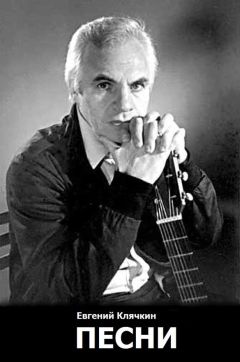Я спел в начале семидесятых годов песню, в которой говорилось, что я прожил в этой стране жизнь, только чью — не пойму. Я знал, на что иду. Ведь в этой песне я эмиграцию поддержал. Спел эту песню у себя в Ленпроекте, а на следующий день меня вызвали в отдел кадров. Там сидел человек, типичный такой, с внимательным взглядом. Он что-то мне говорил, неважно что — все уже было решено заранее. А решено было меня не трогать. Я остался работать на своем месте, но концертов мне больше не давали.
Конечно, напрямую мне никто ничего не запрещал. Но то в зале перед моим выступлением труба лопалась. То я три часа летел на самолете на свой концерт, а там ключ от зала не могли найти. Словом, я все понял. Спокойненько так все было обтяпано, культурненько. И пожаловаться не на что. Изредка попеть все же давали, так, в глуши где-нибудь. Чтобы не делать из меня в глазах народа мученика, чтобы не плодить в стране диссидентские настроения.
22 марта 1994, Санкт-Петербург
Помнишь этот город, вписанный в квадратик неба,
Как белый островок на синем,
И странные углы косые?..
Жаль одно, что я там был тогда, как будто не был.
Помнишь церковь, что легко взбежала на пригорок
И улеглась на нём свободно,
Отбросив руку с колокольней,
Как лежал бы человек, спокойно глядя в небо.
Ветерок относит тени и друзей, и женщин, —
Что ж, разве это не прекрасно,
Что верить до конца опасно…
Неужели ты чего-нибудь другого хочешь.
Две свечи в ногах, а сами станут в изголовье.
Вот фотография… прекрасно,
И время над тобой не властно.
Слава богу, та, с косою, нас ещё не ловит.
Стены этих храмов по глаза укрылись в землю.
И добрые седые брови,
И в жёлтых бородах — улыбки…
Неужели ты в ответ не хочешь улыбнуться?
Камни нас в лицо узнают и запомнят камни.
Ну, разве нам с тобой не ясно,
Что всё устроено прекрасно…
Лица их в морщинах, тяжкие тела их — помни.
Так лежал бы человек, спокойно глядя в небо…
Псков был первый старинный русский город, в котором мне довелось побывать.
Нам повезло: познакомились с замечательным человеком, псковским художником Всеволодом Петровичем Смирновым. Послушал он мои песни и решил показать нам свой город:
— Сейчас час ночи. Поспите часа два, а в три пойдем на Великую рассвет встречать. Вам это надо видеть.
Псков покорил естественностью, с которой вписывались в пейзаж все его древности, какой-то непреднамеренной, уютной жизнью всей этой трогательной старины. И сразу я почувствовал этот город, как бы «вписанный в квадратик неба»…
Сначала появилась мелодия — странная, с постоянными повторами. Мне она почему-то напоминала французский шансон. Но когда пришли слова, я понял: ничего тут нет французского, это типично русская народная напевность с повторами, характерными именно для нашей песни.
Послушав ее, Всеволод Петрович сказал: «Да, это — Псков…»
1977, Куйбышев
Песня «Псков» в 1969 году на Втором всесоюзном конкурсе на лучшую туристскую песню была удостоена третьей премии.
Путешествие из Москвы в Петербург
Томительно пела гитара,
качался под ветром ковыль.
Катился возок мимо «Яра»,
тревожа российскую пыль.
И скука сменялась тоскою,
натужно сипели, поршня
За окнами шло Бологое —
Все мимо да мимо меня.
А скорость росла без причины —
венгерский летел тепловоз.
Стояли в проходе мужчины,
держась за дымки папирос.
Ночными залитый огнями,
как кто-то когда-то сказал,
мелькнул уже где-то под нами
красавец Обводный канал.
Дрожит, затихая, ракета,
вплывая в прозрачный вокзал…
…А я лишь заметил соседа
и все-таки вновь опоздал.
Ну вот — случилось. И день настал,
как я представляю, равный
всему, чего я боялся и ждал, —
день пониманья правды.
Ни блеска в небе, ни тени здесь —
предметы равны предметам.
А вот — голограмма, и в ней я — весь,
одетый — словно раздетый.
Джинсы, кроссовки — пусть полторы.
Ну, сотню потянет куртка.
На «кэш»[24] — двадцатка, и хоть умри, —
все четко, как это утро.
Продолжим опись. Надежды — нет.
Зато есть мечта. Мечтенка.
Застыть на этом. На том, что есть.
Не потерять — и только.
Поскольку дальше — ступеньки вниз.
(С календарем не спорят.)
Хоть нет команды: «Поймать. Казнить!»,
но казнь идет полным ходом.
Знамена, стяги. Парад идей.
С любою — на свалку прямо.
Шучу. Всего лишь — тяжелый день:
день пониманья правды.
— Твои туфли, как кроты —
черной замшею.
А мне плевать, что хочешь ты, —
я же замужем!..
«За ресницею глазок —
как за облачком.
А ворошиловский стрелок
целит в яблочко».
— Ну что ты знаешь про любовь! —
все по-книжному…
Да ты ж не самый — ты любой!..
А я нежная…
«Звери прячутся в лесах,
в небе ласточки.
Ветерок по волосам —
моя весточка».
— Твои руки, как ножи,
как двуликие.
И куда ни положи —
всюду бликами…
«А ты головку подними,
ты глаза в глаза.
Ненадежно быть людьми —
проще быть в лесах».
— Дурачок ты, дурачок
необученный!
Для тебя что ни толчок —
то и к лучшему…
«Раз картечь заряжена, —
значит, стрельну я…
И какая ж ты жена —
ты ж отдельная».
— Твои губы — как кроты —
все напортили…
А стрелок-то мой — не ты,
он без портфеля!..
Какие мысли бродят в голове,
когда от зданья аэровокзала
автобус отплывает без сигнала
и, плотоядно чмокнув, щелкнет дверь?
Когда в дороге остановок нет
и не выходит каждый где попало,
и чтоб ничто шоферу не мешало,
он выключает нас и гасит свет?
Легки толчки, достаточен уют,
когда принадлежишь Аэрофлоту,
и маленькие, точные заботы
забыться и забыть их не дают.
Они дерут нам кожу, как наждак…
Но есть клочок, где номер нацарапан,
который вознесет тебя по трапу,
а те, что суетятся, — будут ждать!
И в этом суть: знак равенства лукав.
Равны мы, если всем всего хватает.
Но если нет, то в жилах заиграет
иной закон: сумеешь — значит, прав!
И ты в полете чувствуешь родство
к соседу с треугольными глазами:
и ты, и он всего достигли сами,
и видно по повадке — это свой.
«Который час?» — нейтрально спросишь ты.
И он рукав свой отогнет любезно
(Ах, как приятно быть порой полезным!),
и в желтых волосах сверкнут часы.
И на земле ты все еще борец.
И вообще — ты опустился сверху…
Тут важно не забыть: окончен рейс,
И можно превращаться в Человека.
Когда подойдет все это
и ввысь отлетит тоска,
и воздуха всей планеты
не хватит на полглотка,
когда ночные созвездья
проступят на потолке, —
не верю, что вот он, весь я,
на жесткой этой доске.
Как были мы — так и будем,
и, верно, Создатель прав:
уйдет, что не нужно людям,
и имя этому — Прах!
Иначе подумать страшно,
как в землю вместить одну
усопших и в битвах павших
мильярды сердец и душ, —
ее порвало б от боли,
порвало на сто частей.
Но чья-то лелеет воля
беспечных ее детей.
Как воздух хранит животных,
как море — холодных рыб,
так тысячи тысяч мертвых
хранят мильоны живых.
Я чувствую их дыханье,
когда своего не взять,
и легкие их касанья,
их слабый и долгий взгляд.
Их зов настойчив и ясен,
и в нем растворится страх:
«Не бойся, тот мир прекрасен,
а здесь останется прах!
Ты есть, ты будешь, ты нужен!»
И верю — я буду весь
в любом, кому станет хуже,
чем мне, лежащему здесь.
Размышление под шум дождя