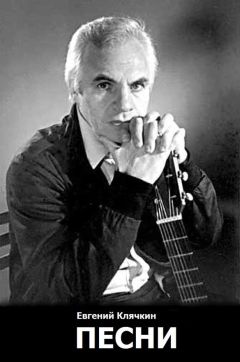До всякой «Памяти» мне пришло в голову, что чего-то многовато евреев делали революцию! Поэтому дымок этого буксира, тянущего баржу, был именно кудрявым, именно еврейским. Мне задавали такой вопрос, но надо признаться в слабости: я не отвечал на него впрямую, как сейчас. Говорил: «Аллегория, буксир… Почему еврейский? Черт его знает, курчавенький такой…»
1989
Не доверяю туманным касаниям танго —
взгляды, движенья и руки, скользящие вниз.
Вальс ясноглазый, тебя одного нам и надо!
Руку, любовь, и не думай, что это каприз.
Твоя рука в моей руке —
как островок в большой реке,
и, набегая без следа,
его баюкает вода.
И этот путь, ах, этот путь,
где ни взлететь, ни утонуть,
и только купол голубой
и над тобой, и под тобой… —
Звуки, качаясь, спускаются к нам ниоткуда,
может, дома, а быть может — сам воздух поет.
Вальс, только ты оставляешь надежду на чудо —
танец забвенья, единственный танец-полет.
И можно, если пожелать,
в ладонях землю подержать
и осторожно, и легко,
не задевая облаков.
И вот, послушна и кругла,
она в ладонь тебе легла,
и мы глядим, едва дыша,
на золотистый теплый шар.
И этот мир — как этот вальс,
где все зависит лишь от нас,
и нежный шарик голубой,
и все, что есть у нас с тобой.
И все, что есть у нас с тобой.
Приключения туриста-дикаря
Для любящих мужей
и для любимых жен
хоть иногда, но надо
не находиться рядом —
хотя бы раз в сезон.
И вот поэтому
пылим по одному
и, наслаждаясь пылью,
плюем в автомобили —
в буржуйскую тюрьму.
Мелькают рощицы,
в них небо мочится,
и города, и даты,
и прочие солдаты,
и флаг полощется.
И вот уже вдали
чужие корабли:
Америку под нами
мы щупаем ногами —
неужто впрямь дошли?!
А где ж ты Родина,
а тут все против нас.
Подходят репортеры,
заводят разговоры:
почем, говорят, арбузы
в Советском, мол, Союзе,
какая, мол, зарплата
у русского солдата,
а ты, говорят, откуда?
А я говорю — недавно!
А где, говорят, работал?
А я говорю — не помню!
Ох, дипломатия!
А вдруг не так моргну?
А вдруг чего сболтну?
Товарищи министры,
ох, выручайте быстро,
а то ведь я тону.
Песенка городского туриста
Малыш, гляди —
рюкзак маячит впереди.
И наш поход
в горах когда-нибудь пройдет.
Ну, а пока —
коляска вместо рюкзака!
И два огня
оттуда светят на меня.
Кривой забор
проводит нас на старый двор.
Здесь все, как там,
здесь липы шепчут облакам.
Цветок в окне
протянет листики ко мне.
Почти ничей,
из крана в люк бежит ручей.
Журчит вода
отсюда прямо в никуда,
в камнях трава
нам улыбается едва,
и луч косой
нас гладит длинною рукой.
Ну что ж, пока —
коляска вместо рюкзака!
Но два огня
все время светят на меня.
Я одну мечту лелею —
про другое не хочу:
как я с доктором-евреем
под сирену полечу.
К черту съёмные квартиры —
вот он, мой последний дом:
там, где общие сортиры,
где тумбёшка — как полмира,
где «моген-давид адом»[23].
Доктор будет из Ирака —
губы толще, чем мои.
Он не скажет мне, собака,
отчего в груди болит.
Будет кхакать по-арабски
он со смуглою сестрой.
Мой иврит понять дурацкий
он не станет и стараться —
недоступный весь такой.
Вот и всё! — ударит в темя
колокольчик изнутри.
Боже, что же будет с теми,
кто доверчиво сопит.
По ночам над спящей детской
три жемчужные столба.
И глядеть — не наглядеться,
но остаться не надейся:
птичка-лодочка — судьба.
Отплываю, отплываю,
боль уносит, как волна.
Значит, так оно бывает,
так баюкает она.
Всё тупее и тупее
нежной точки остриё.
Доктор, разве я болею?
Это ж я над вами рею,
это тело — не моё.
А может это и к лучшему,
что смотрела ты только вниз
и не видела, как, измученный,
плакал мокрый карниз.
И это, наверное, к лучшему,
что не видела ты, уходя,
как ветер рвал и выкручивал
длинные руки дождя.
И, значит, все-таки к лучшему,
что глаз ты не подняла:
ведь если бы ты взглянула —
ты просто бы не ушла.
Ночь.
Мокнут рельсы пути,
и, глаза опустив,
вижу в лужах огни.
День —
день у каждого свой,
и под мокрой листвой
мы, как ветви, одни.
Год —
год по листьям скользя,
за завесой дождя
все туманней друзья.
Где —
где поднимет рука
мотылек огонька,
сигаретой дымя.
Что —
что напомнит тебе,
в твоей новой судьбе,
что напомнит меня?
Пусть
это будет не грусть,
пусть узор на ковре
или снег в ноябре.
(Юный снег в ноябре.)
Не глупо ли прощаться с тем, что было?
Ведь прошлое — оно всегда при нас.
И все, что отболело и остыло, —
все в памяти, пусть было только раз.
Простимся с тем, чего уже не будет:
прощай, богоподобная Бриджит!
И все для нас несбывшиеся люди,
которым наш восторг принадлежит.
Прощайте, пляжи Рио-де-Жанейро —
невиданный, благословенный край!
Прощайте, фрески, что писал Сикейрос!
Не знающий меня Париж — прощай!
Прощай, порядочный туманный Лондон,
где, как один писатель говорит,
под бомбами «Отелло» шел. А впрочем,
Россию этим трудно удивить…
Перечислять, боюсь, не хватит жизни —
прощай, мне незнакомая Земля.
И все, меня любившие в Отчизне,
кого до смерти не узнаю я…
Без убежденья здесь поставим точку.
Прекрасен снег над серою Невой.
Представимте, что он такой же точно
над Сеною и Темзой… Боже мой!
Всего милей родимый дом в сравненье
с чужим — об этом сказано давно.
Покажется приметой отклоненье.
Да сравнивать — вот жалость! — не дано.
Утешимся березовою рощей,
с листом осенним разделив печаль…
Жаль не того, что нет, а то, что проще
любить, что под рукой, — вот это жаль.
Как данность, мы принимаем то обстоятельство, что за время нашей короткой жизни мы не успеем посмотреть даже такую сравнительно маленькую поверхность нашего мироздания, как поверхность нашей планеты Земля. И вроде бы грустить по этому поводу нет никакого резона. И тем не менее на эту бессмысленную тему мне захотелось попечалиться.
1978
Я прощаюсь со страной, где
прожил жизнь — не разберу чью.
И в последний раз, пока здесь,
этот воздух, как вино, пью.
А на мне, земля, вины — нет.
Я не худший у тебя сын.
Если клином на тебе свет,
пусть я сам решу, что свет — клин.
Быть жестокой к сыновьям — грех,
если вправду ты для них — мать.
Первый снег — конечно, твой снег!
Но позволь мне и второй знать.
А любовь к тебе, поверь, есть —
я и слякоти твоей рад.
Но отрава для любви — лесть.
Так зачем, скажи, ты пьешь яд?!
Ты во мне, как я в тебе — весь,
но не вскрикнет ни один шрам.
То, что болью прозвенит здесь,
клеветой прошелестит там.
Я прощаюсь со страной, где
прожил жизнь — не разберу чью.
И в последний раз, пока здесь,
этот воздух, как вино, пью.
Я спел в начале семидесятых годов песню, в которой говорилось, что я прожил в этой стране жизнь, только чью — не пойму. Я знал, на что иду. Ведь в этой песне я эмиграцию поддержал. Спел эту песню у себя в Ленпроекте, а на следующий день меня вызвали в отдел кадров. Там сидел человек, типичный такой, с внимательным взглядом. Он что-то мне говорил, неважно что — все уже было решено заранее. А решено было меня не трогать. Я остался работать на своем месте, но концертов мне больше не давали.