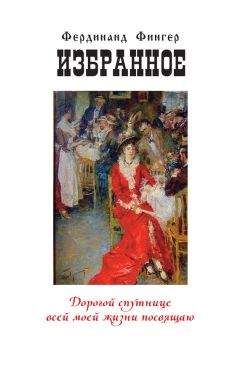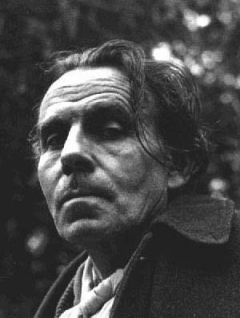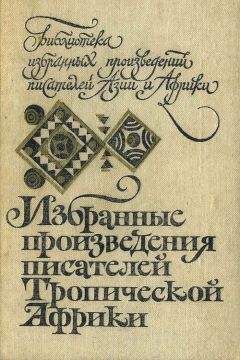Продавщица стояла с разливалкой в руке.
И бутыли проворно она заполняла.
По сто грамм «недолива» – оставляя себе.
С драгоценной бутылью бежал я до дома.
Как хотелось немножко пролить и поджечь.
Что должно в керосинке гореть.
Керосин выжигая в форсажном ходу.
Или трактор работает – я ощущаю.
Как парфюм этот запах – я словно в раю.
А бывали деньки – мне запавшие в память.
И деньков этих было два раза в году.
Сталин «щедрой рукой» продавал всем муку.
Номерок на руке, да всю ночку прожди.
Шестилетки и взрослые – стой и терпи.
А потом всем – награда – не гнилая картошка.
«Мам, а, мам – ну, добавь нам немножко».
И блины исчезают с нумерованной детской руки.
Беспросветную серую жизнь на года.
Коммунальные запахи – «их прелестный букет».
Приглашает прохожих к себе на обед.
Москва. Тверская. Далекие, щемящие года.
Там бывшая управа – Моссовет – отсвечивает краснотою.
Напротив домик барский – там неполные три этажа.
И Долгорукий на коне с протянутой к нему рукою.
А домик этот барский, разделенный на клетушки,
Фасад в венецианских стеклах – посмотри!
Там мучаются люди в тесных комнатушках.
И нет надежды там на лучшее, что впереди.
Эх, коммуналка, коммуналка, дальние щемящие года.
Мечта правителей —
всю сволочь переплавить, навсегда и просто,
Профессора, рабочего, крестьянина – и вот тогда
Из тигеля отлить советского послушнейшего монстра.
Вот вход, мочою весь пропахнувший подъезд,
По барской лестнице – над головою арматурой дранки,
И дермантином драным всю залатанную дверь
Толчком ноги – и ты уж в коммуналке.
Открылась дверь, напротив снова дверь,
Там ванная четыре с половиной метра,
Здесь Эльсты из Эстонии – старушка-мать и дочь.
И чтобы жить, дышать – там воздуха 16 кубометров.
Один раз в гости были мы приглашены.
Присели на диванчик вместе с мамой.
Не знаю, как хозяева к столу там проползли,
Как жить вдвоем, не понимал я, в этой ванной.
Налево коридорчик узкий в газовых печах,
А рядом наша дверь – открой неимоверное богатство,
Две комнатки имеем, восемнадцать метров – богачи,
За лишний метр не полезем драться.
Налево шкафчик из фанеры жалостно стоит,
Налево топчанишко весь изломано-кургузый.
Посередине столик скатертью накрыт,
Ведь мебель никогда и не была для нас обузой.
Фанерные перегородки раздробили лепку на куски,
Четыре с половиной метра высоты – видали?
Все комнатушки так разделены, высоки и узки,
Что съемщики живут здесь, как в пенале.
А тридцать лет назад здесь все сияло красотой —
Огромная гостиная, богатство лепки,
Но мы ведь все советские – буржуев вон долой!
И хватит с вас, паршивцев, тесной клетки.
Кривое все, заношено все до предела,
Все сделано без сердца, и охватывает немота.
А до людей живых кому какое дело,
Жизнь жестока, как гвозди, загнанные в руки у Христа.
Теперь о нашем длинном коридоре.
Линолеум стоит взъерошенной иголкой у ежа,
На стенах штукатурки нет – квартира-горе,
Эх, коммуналка, как для Сталина ты б подошла.
А запах тот, живём в котором,
Ведь он из пищи, сваренной почти из ничего,
Там наша сковородка, смазанная солидолом,
На ней котлеты из очисток, только и всего.
Налево дверь до боли так знакома,
Там Яковлев – профессор и его семья.
До революции они владели этим домом,
Как в сказке – вам не кажется, друзья?
Как часто маленьким мальчишкой
Пред этой дверью я стоял в те времена.
Зажав подмышкой для обмена книжки,
Которые давала мне профессора жена.
Интеллигенция почти добитая, полуживая,
Воспитывала, образовывала малыша,
Чтоб пальцем книгу не слюнил, читал, вникая,
И рассказал о содержанье без труда.
Какое страусиное яйцо стояло на рояле,
Какой чудесный запах окружал меня,
Какие книги там в шкафах стояли,
Которые почти что все я прочитал тогда.
А дальше – комнатка сорокалетней тети Аси.
Та секретаршею, ухоженной блондиночкой была.
И наш жилец, который комнату снимал у мамы,
В ней почему-то исчезал до самого утра.
Мне было так смешно, что дядя платит деньги
За ничего – не ночевал у нас он никогда,
Я думал с тетей Асей он в лото играет,
А почему бы нет – ведь это интересная игра.
Направо дверь, и там семья Ланко жила,
Муж и жена, и отпрыски – Наташка, Дема.
Жена в больнице городской завхозихой была,
И иногда у них мясной котлетой пахло дома.
Меня постарше дети были у Ланко.
И зубы черные я у Наташки йодом чистил.
Не думал я о том, что взрослая, целуется она,
Об этих глупостях я и не мыслил.
Наш коридор кончался лесенкой в конце,
Там умывальник с ржавым краном-мойкой,
Там метр семьдесят – высокий потолок,
А за окошком Плята старенький отец копался на помойке.
На чердаке малюсенькая комната была,
По метр восемьдесят ростом проживала,
В наклонном состоянии семья одна,
Мажаровыми, помню, мама называла.
Уборную, особенно, отмечу я.
Пятнадцатью людьми ведь повседневно посещалась.
На гвоздике нарезанная там газетная статья
С портретами вождей по назначению употреблялась.
А это было так опасно в те ужасные поры,
Донос – и из уборной мог в Сибири оказаться,
Не пощадили бы и нашей детворы,
Не дай то Бог, чтоб этому случаться.
И вот и дверь с дырявым дермантином,
С уборной рядышком пристроилась она.
Там проживала из деревни Гранька с сыном,
А дверь напротив, профессуры той была.
Теперь я понимаю, это ведь сюжет кино —
Профессор взглядом в дверь уборной устремлялся,
Нос к носу сталкивался с Гранькой, ну, и что,
Он перед Гранькою с поклоном извинялся.
Как осознал с годами я потом,
С абортов Гранька не слезала,
И загнутой и отбитой кочергой
Дитя из чрева недоношенное выскребала.
А мамочка моя заботилась о Граньке часто.
Все понимая, что нужда не позволяет сохранить дите.
Когда в крови и без сознанья заставала,
И в «Скорую» звонила, чтоб спасти ее.
Кончалось детство – девятнадцать стало,
Вдруг кончился Палач, и стало вдруг светло.
Страна стонала, корчилась от плача,
А я смеялся про себя, и это было хорошо.
Слезами радости я тайно отомстил Злодею
За мать измученную, дядю и отца,
Слезами радости – другого не имея,
А чем еще я мог им отомстить тогда.
Как много лет прошло – я поседел совсем,
В воспоминаниях мне дней прошедших жалко.
Ведь там была неповторимой юности весна,
В ней с счастьем прожил бы опять, и даже в коммуналке.
Мой одесский привоз. Ты, как мама родная,
Обогреешь теплом и накормишь меня.
Жалко я далеко и так редко тебя посещаю,
Здесь так быстро прошла босоногая юность моя.
Шум, и семечек лузг, смех и звон над толпою.
Здесь худющую курицу за толстенного гуся всучат,
Вобляной аромат, да с волшебной икрою,
И за воблой с пивком щипачи, поджидая, сидят.
Эй! Приезжий! Забудь свой карман на минуту,
И о нем моментально здесь вспомнит другой,
На гостиницу деньги твои проездные,
И исчезнет в секунду портмоне дорогой.
У торговки любой, будь то зелень иль фрукты,
А уж синенький наш помидорчик любой,
Превращаются здесь вдруг в такие продукты,
Не купить, не пройти ты не можешь, родной.
Двор одесский! Мой двор не опишешь в романе.
Согревал мое детство такой теплотой.
Эти лестницы вверх и балконы с тряпьем постоянным,
Перекрики с балконов соседок и запахов рой.
А победною песней над Одессой – моею Одессой,
Несосчитанным ворохом вдруг пронесшихся лет,
Он в глазах, этот запах в ноздрях, он в тебе постоянно,
Это запах бессмертных одесских котлет.
«Почему ты пришел, и уже ведь так поздно!
Эта девочка не для тебя, дядю Моню спрошу,
Ты совсем похудел, расскажу тете Саре,
Ты на кем потерял вес и силу свою?
Раньше ел три котлетки и был всем доволен,
А теперь десяти не хватает тебе досыта.