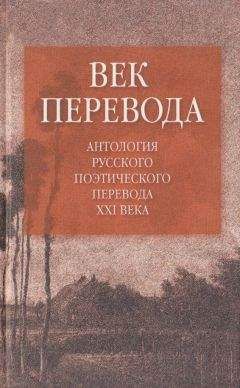АЛБЕРТО ДЕ ОЛИВЕЙРА{172} (1859–1937)
Один лишь раз дала судьба лихая
Коснуться мне руки той белоснежной.
Я одинок. Вихрь жизни, громыхая,
Нас разлучил и раскидал небрежно.
И как цветок я гибну, засыхая,
Над сундуком, что дар хранит прилежно.
Лишь аромат изысканный вдыхаю
Оставленный мне в дар рукою нежной.
И лилии душа в одно мгновенье
Прольется вдруг из чаши наклоненной.
И нет меня — лишь прах, в земле сокрытый.
О! Чувствуя руки прикосновенье,
Сумеешь ли, живым теплом плененный,
Понять тоску перчатки позабытой?
Старинный форт. Та ветхая оправа
Хранит эпох скупое подношенье —
Там кактус свой цветок зажег кровавый,
И скудный мох — расщелин украшенье.
Храня покой, стоит на возвышеньи.
Не раз спасал он город от расправы.
Быть может, цель ясна — и в предвкушеньи
Сей замер страж, выносливый и бравый?
Он в час ночной безмолвно созерцает —
Луна полна и сбросила одежды,
И серебром во мгле звезда мерцает.
Он — как свеча, что бодрствует над тенью.
И дарит лишь луна ему, как прежде,
И поцелуй, и слезы, и смятенье.
Не ветер лишь, волне громадной вторя,
Творит твой гул, свирепый и великий, —
Ты, Океан, несешь людские крики,
И в плаче том — всё мировое горе.
То всхлип, то вздох слились в едином хоре.
Стон кораблей в твоем я слышу рыке —
Обломки их несет тебе, владыке,
Священный шторм — в своем слепом задоре.
Они плывут — раздавлены, разбиты.
Останками их машешь ты, играя,
И в час ночной на пляж безлюдный бросишь.
Сколь чистоты в глухом том плаче скрыто!
Сколь ценен он — от края и до края, —
Тоскливый стон тот, что в волнах ты носишь!
ОЛАВО БИЛАК{173} (1865–1918)
Вчера — глупец! — звезда мне говорила
(Смех прозвенел, и в нем — лукавства дрожь):
— Одна из нас всех краше. Озарила
Мир чистотой. И лучше — не найдешь!
К утру — промчат года. Идем! Открыла
Я путь тебе — там розу обретешь.
За рифмой мчись чудесной, златокрылой… —
И прошептал себе я: — Это ложь! —
Пошел за ней, хоть ослеплен был всеми.
Что ж, исправлять грехи настало время.
Звезды пока не выбрал ни одной.
О, горе мне! Я пред тобой предстану.
Я весь в слезах, и ход времен — обманы.
И сестры все твои — тому виной!
Наш взор сильней, чем поросль, привлекают
Столетние деревья, сень густая.
Среди ветров сквозь времена взрастая —
Как хороши! Как нежно нас ласкают!
Любая тварь к их силе приникает,
И кров, и стол под кроной обретая.
Среди ветвей мелькает птичья стая,
И никогда там песня не смолкает.
Мой друг! И мы о юности не плачем,
Закатный час улыбкою встречая.
Нам годы, как деревьям, — украшенье.
Мы счастливы. И нам удел назначен —
Птенцов в своих владеньях привечая,
Защиту им дарить и утешенье.
ЗАЛКИНД ПЯТИГОРСКИЙ{174} (1935–1979)
Ни слова я не говорил. И ты — молчала.
Но мы любовь узнали в миг ее рожденья.
В нас солнечный вошел огонь, дав пробужденье.
Взор — счастья дрожь. Считаешь, в том — любви начало?
Я думаю не так. Любовь в свои владенья
Влекла верней, пока сильней нас разлучала.
О волшебство! Тем громче в нас она звучала,
Чем больше скрыть ее хотел флёр отчужденья.
Когда ж змеей свинцовой день однажды сдавит —
Удивлены, заметим: нет огня былого.
Лишь холодность живет в душе и нами правит.
Что жизнь, что смерть — над всем закон, и всё — не ново.
И мы поймем, когда любовь нас вдруг оставит, —
Молчала ты. Я не сказал тебе ни слова.
АЛЕКСАНДР МАКЛАХНАН{175} (1818–1896)
Жизнь бедняка полна невзгод,
И горю — края нет.
Несет рыбак из бурных вод
Нехитрый свой обед.
Как саван, вьются облака,
Луна ползет, бледна.
И в вое ветра — лишь тоска
Занудная слышна.
Стон — над ручьями среди тьмы,
Скрип — в птичьих голосах,
И ищут Аррана[17] холмы
Опоры в небесах.
Боюсь взглянуть: в той стороне —
И рев, и плеск, и шум.
Приносит ветер думы мне —
И нету горше дум.
Там в море парни в эту ночь —
И благоверный мой.
О Боже! Чем же им помочь?
Верни их всех домой!
Вот ночка! Проблеска в ней нет!
Как путь найдут сквозь тьму?
Чтоб вел домой их яркий свет,
Я лампу подниму.
Порывы ветра так резки,
И мрак не поредел.
Там бьются с морем рыбаки,
Молитва — мой удел.
Про то проведает не всяк —
Как нищета страшна,
Как с ней сражается рыбак
И как — его жена.
Мой брат шел ночью штормовой,
Второй и третий брат —
Хлеб добывать нелегкий свой.
И не пришли назад.
Неужто, Боже, вновь беда,
И не придут они?
Как — не спрошу я никогда.
Но я прошу — верни!
Свой глас возвысь, всесильный Бог,
И шторм угомони.
Избавь же сердце от тревог —
Скорее их верни!
ЯРОСЛАВ ВРХЛИЦКИЙ{176} (1853–1912)
Бежит тропинка, меж теней скрываясь.
И счастлив я, застывший при луне,
Когда листок, с высоких крон срываясь,
Летит — и на лицо ложится мне.
Зайдется сердце радостью и смехом —
Деревья ликованием взбодрят.
Я знаю, как скала болтает с эхом
И что друг другу кроны говорят.
А предо мной тропинкою лесною
Шли двое — счастьем скованы уста,
Шли так, как ходят летом под луною,
Лишь розы в их сердцах и чистота.
Вниз устремлен был взгляд ее прекрасный,
Коса струилась — ручейка живей,
Деревья вслед кивали им согласно,
Благословляя шелестом ветвей.
Рука в руке. Из темных крон взирая,
К ним прикасалась тишина тайком —
Как будто мотылек, цветком играя,
Иль ветер — серебристым колоском.
Шли — а вокруг всё клевером белело,
И ароматы леса ветер нес,
Над соснами заря полоской тлела,
И земляники взгляд блестел от слез…
За поворотом скрылись. И настали
Вдруг сумерки, и из лесной глуши: —
Ступайте с Богом! — кроны им шептали,
И в кущах дрозд распелся от души.
Листок, лица коснувшись, обернулся
Предчувствием и песней, как во сне.
И ветер еле слышно всколыхнулся,
Их счастьем наполняя душу мне.
АНДРЕАС ГРИФИУС{178} (1616–1664)
Bidermanni. Eheu! flebile funus[18]
Увы! Что вижу я? труп распростертый, тело,
В котором места ты живого не найдешь, —
Из раны кровь бежит, и в смертном страхе дрожь
Проходит по щекам, лицо белее мела.
Кто мучил так Тебя? Кто дико и умело
Бичом рвал плоть Твою? Какой тигренок, кто ж,
Свиреп, Тебя когтил, когда гвоздями сплошь
Ты был пробит насквозь, с кем мне сравнить бы смело
Того, кто нежный лоб шипами изгвоздил?
О мой Жених, Тебя кто желчью напоил?
Твою любовь свершив — мою вину-измену,
Кто не готов к любви, с Его любовью врозь?
Чью душу образ сей не поразил насквозь?
Навеки плачет пусть рассудку помраченну.
VII. Помните жену лотову! (Лук. 17:32)