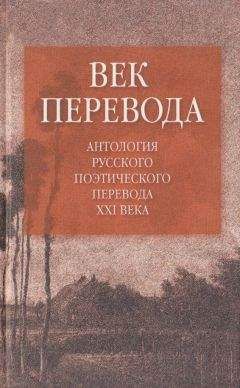Я жив еще…
Я жив еще, хотя им дела нет —
Друзьям, оставившим меня, забывшим,
Что в одиночку против стольких бед
Уже в минувшем я, как призрак, в бывшем,
Где призраки любви, чаду кошмара,
И всё же я живу, в частицах пара
В ничто переходя — в небытие,
Как в океан недремлющих, как войны,
Снов — сновидений, где лежат на дне
Останки жизни некогда достойной,
А те, кого я больше всех любил,
Мне дальше всех и холодней могил.
Мне хочется нехоженых дорог,
Где женщина не плачет, не смеется,
Где я сам-друг с Творцом, где Бог не строг,
Где спать легко, как в детстве, удается,
Спокойный бестревожный сон иной
Ниже травы — и небо надо мной.
ГОТФРИД БЕНН{185} (1886–1956)
Прозрение и сладость Я-распада
ты даришь мне: гортань воспалена,
звучанием неведомого лада
в мой темный низ спадает пелена.
Где, выхвачен из материнских ножен,
гулял, бряцая сталью, ятаган,
опущенный, дубровами обложен,
лишенный форм, колышется курган.
За тишью гладь, чуть ряби, да и только —
предчувствий выдох, собранный в кулак,
минувшим сотрясаемый без толка,
стечений созерцатель и мозгляк.
Я взорвано — в отяжелевших водах,
развеян жар — мед прорванных запруд,
так истекай, стекай — в кровавых родах,
в разбитых формах отлитый сосуд.
Закат закатов, армии теней
пылящий гейзер, тучные телеги,
размашистым вращеньем эмпирей
Гепта-мерона вялые побеги
во все углы и пустоту морей —
За розою ветров чужих Атласов
вкруг полюса по азимуту вспять,
из плоского звучания саргассов
надутых щек тритонов трубных гласов
широким шагом в трутневую падь —
Всё это степь: в развитии глумясь
извечно ввысь! Подъём! многоязыка
безудых трупов голи, горемыка
всей норостью заглохшего арыка
всей яростью к истомному стремясь.
Good by, Митропа, неофитов племя
от поздних берегов летейских гряд
глумливо омерзительное семя
во все рассветы и в речное стремя,
моря и ночи с леностью плеяд —
всё вниз и вниз, уходят Стиксом тени
вращая тирсы трутневых притвор,
темнеет, во главах, на все ступени
из глубины руин кипень сирени
как будто «эй» в ночи и «nevermore».
Ночь. От моря до неба
крики последних мод,
голодно, вместо хлеба
опустошений свод.
Сумрачные константы
туч, а в просветах желто, —
всё это — корибанты,
апофеоз Ничто.
Осыпь каменной кладки,
усыханье морей,
вечно остатки,
вечно крик Ниобей,
на зачумленные очи
тяжкие веки легли —
слышишь фиалку ночи
в запахах вод и земли.
Сгрудились страны сарматов,
голода санный конвой,
трупы, язвы стигматов,
волчий за Доном вой,
с рыб в волосах, со ступнями,
мокнущих на юру,
смоет весною дождями
вызревшую икру.
Щерь от уха до уха,
звёзды и ночь дразня,
вздутое треснет брюхо
в свете судного дня;
хищник, пламя урона,
участь твари любой,
рвет материнское лоно
пуповину с тобой.
О! — Эоны забвенья!
маковый сон лугов,
прочь Ахеронта теченье
сносит дыханье миров,
носит летейская пряность
орфический апофеоз,
чудную безымянность
гимна роящихся ос.
«О ты, гляди: волной левкоев,
глаза захлестывает шквал» —
ты там снимаешься с устоев,
где рану не зарубцевал;
последний запах поздней розы,
дни снова целят на излет,
менад сечения, угрозы,
где речь о фабуле идет.
Ум грезит самоутвержденьем,
самораскрытием дыша;
всё глубже грезы; ослепленьем:
само — обман, комплот — душа,
забудь себя, лишись устоев
тех, на которых мнится дом,
тебе несет волна левкоев
предел, расплесканный крутом.
Гнет ветви тяжесть урожая,
плодоношения угар,
озера бьются, отражая
садов мучительный пожар,
и вся лернейская округа,
что сеет смерть и с кровью жнет,
тогда пойдет под лемех плуга,
когда по сердцу тень скользнет!
«Вот она — Йена, в прелестной долине», —
мать посетила тем летом курорт
и надписала открытку, а ныне
почерк знакомый почти уже стерт,
стелись из памяти близких уходы,
черт графология, лет череда,
годы надежд, становления годы,
лишь этих слов не забыть никогда.
В оттиске том невысокого класса
не были краски цветенья видны,
с массой включений бумажная масса,
горные склоны не так зелены,
но если видел поля и овраги,
прелесть долины и кровель уют,
не нужно офсета, лощеной бумаги,
одна только вера, другие поймут.
В слове том выход был найден избытку
чувства, руке будто кто диктовал,
мать у портье попросила открытку,
так вид живописный ее взволновал,
всё — выше сказано — близких уходы —
касается всех и того не щадит,
кто — годы надежд, становления годы —
сегодня на город в долине глядит.
Чувством и мышлением зажатый
в этот час, который был твоим,
грустью пьяный счастья провожатый —
это час, чтобы проститься с ним,
только грусть — триумфы уступают
пораженьям, плачам и венкам,
только грусть — как знать, где сбор сыграют
отошедшим в прошлое полкам?
Думай как уставшие от тягот
спят иные боги и цари,
думай о стране, где кровли пагод
выгибают паруса зари,
вспоминай, как мир, без но и если,
был накрыт потопом, а потом
вспоминай, как мамонты исчезли
в тундре между пламенем и льдом,
чувством и мышлением зажатый
лёг в тебе невидимый поток,
лишь его мотив летит — крылатый,
беспечален, лёгок и далёк.
ГЕРТРУДА КОЛЬМАР{186} (1898–1943)
Чудо, не случилось ни знаменья, ни виденья.
Ни яркой звезды пролетевшей над степью,
Ни ангелов с неба сошедших сияющей цепью;
Смоквы молчали, не дрогнули мертвые каменья
В могучих и крепких домах Фараона.
Только бедная мать в тростниках блуждала,
Качая плетеной корзинкой, беззвучно рыдала,
Взывала к мирам истуканов, не слышащим стона.
Смягчалось одними лишь розово-фламинговыми облаками,
Безжалостно синее небо, раззолоченное светилом.
Под босыми ногами хлюпало жирным илом;
Язвительно-пестрые змейки свивались клубками.
Отмель, где бог Себек зевая расстелился,
Зеленеющей бронзой укрыла броня крокодилья,
И бог Тот, расправлявший слежавшиеся крылья,
Глазом Ибиса тогда лишь на женщину воззрился,
Когда кровинку свою на берегу положила.
Спал младенец, будто бы в лоне укрытый,
В крохотной теплой ночи: опьяненный и сытый,
На губах молоко дышало еще и жило.
Лягушачьи страдания разливались с избытком,
И никто не заметил мимолетно явленной картины:
Папирус, перегнувшийся чуть через край корзины,
Клекнущий веер сложил и свернулся свитком.