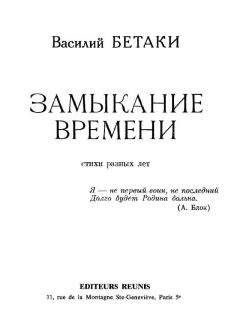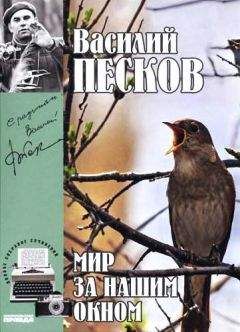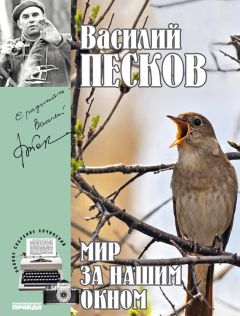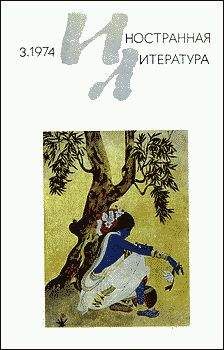вместе с запахом старых книг, прикованных цепями
в Национальной Библиотеке… Под взглядами средневековых святых
перейди через мост в наши дни — свет обернётся обычными фонарями —
оглянись на липы бульвара, окутанного зелёной и палевой
дымкой тумана, заглушившего цоканье лошадей,
на кареты оглянись, на шелковые шляпы, на широту морали
(скажем хоть бальзаковской), и тут же вернись к своей
эпохе пепелищ, опустошенных домов,
дальних фабричных труб, удлиненных столбами дымов.
II.
Вдали от улиц, бурлящих, как романы, печалью столетья,
вдали от набросков Кёльвица, боль эмигранта есть ощущенье,
что язык его переведён бедно, что синтетическая аура
чужого синтаксиса, чуждое построенье
фразы — иссушает неповторимость деталей, уничтожает скрип солнца
на подоконнике в краю детства и сена,
под дверью сарая смазывает чёткость тенИй.
И скатерти в кафе — будто написала их академическая кисть.
Короче, вся выдуманная Европа оборачивается театром.
А в этих иссушенных отсутствием истории краях есть
только отзвук того, что читал ты, и много поздней
всё где-то напечатанное становится реальным:
каналы, церкви, ивы, кучи грязного снега.
Вот она, эта зависть, которой мы все подвластны — не приходится с ней
спорить нам, читателям, поглощателям дальнего:
она подметает страницы нашего сознанья, как мостовую,
или взрезает как поле, где след пера прокапывает траншею.
Мы тоже оказываемся в числе тех, кто избрал такую
судьбу: шарфы перистых облаков превращать в прощанье
с оперной дивой: потолок с херувимами,
полные каменных фруктов рога изобилия —
всё, созданное для тех, кто верует в целительность музыки. И поплыли
кучевые огромные облака, как самосвалы грохоча в движенье
пустыми бочками газет; вера в спасенье искусством стала нас покидать,
и старые офорты мы превращаем снова в травлёные изображения,
которые на мокрых булыжниках и на крышах проступают опять и опять.
III.
Булыжники собраны в кучи, как срубленные головы,
крыши тянутся друг к другу через улицу пошептаться, стена
вся в символах, обрекающих звезду Давида. Серые лица
осторожно отворачиваются друг от друга. Луна
задергивает тонкие занавески под грохот сапог,
разбитые стекла рассыпаются брильянтами по тротуару, и вот —
безжалостное молчание проглатывает прежних жителей,
и символы, и слова, которые ни одна улица больше не произнесёт
и не осмелится вспомнить, почему всё это произошло.
А сегодня — дубль того фильма: туман ложится на мостовые,
на "этнические чистки". Загораются юпитерЮ —
выплывают декорации к фильму, тени свастик,
газовый свет расставляет точки и запятые
в бесконечной фразе улицы. (Стоп кадр.) Пора…
Мимо закрытой оперы, проносятся листья лип.
Люди с глазами цвета копоти встали
в очередь за хлебом (Стоп-кадр.) Экспрессионистские углы старого
города… Всё последующее идёт с оркестровкой постиженья
того, что будет; и символы, повторяющиеся над аккуратным убранством,
и голос кантора, и древний язык, запрещавший изображенья,
обретают смысл надмирный и бесстрастный.
IV.
Эта туча была Европой. Она расплывается за колючими
ветвями железного дерева, древа жизни. Над моим островом
висит грозовая туча на гребнях белых и остановленных
лавин. Снег, ледовые походы, бураны на экране. И так просто,
только границы и политика меняются в новостях всё тех же, старых,
а за ними хромые волки — красные ягоды вместо глаз —
их беззвучный вой клубами дыма тянется, тает,
как замёрзшее неподвижное облако над мостами.
Баржа-Польша медленно плывёт по теченью
под медлительный и торжественный трубный глас.
Петербург — шпили в облаках. Облака забываются как битвы — полностью.
Как снег весной. Как зло. Всё что казалось мраморным — только вуаль. Играй,
Тимон, играй, проклинай любые дела — все они подлые,
пусть большие волны безо всякой пользы перехлёстывают через край.
Твоя тень при тебе остаётся, разве что юрких крабов пугать,
и они застывают, пока не пройдёшь ты. А это облако
приносит весну вавилонским ивам Амстердама: они опять
распускаются, как толпы у Писарро, на мокрых ветках бульвара,
дождик тонкой проволокой не устаёт Нотр Дам оплетать.
Слово "Краков" звучит вдали как артиллерийские залпы. Танки.
Танки и снег. Толпы. Изрешеченные пулями стены
ватой времени затыкают свои раны и ранки.
367.
Будто наклонили фитиль Земли… и над ней
появилось пятно на стекле серого неба,
и пошел аккуратный дым с полей,
заполыхал октябрь в Нью — Хэмпшире: густо и немо
скошенные листья кружились в свисте кос,
и сумЮх уже совсем не розовый,
и послышался скрежет кружащего сокола
над шёлком асфальта, за пылающим озером,
над рыжим недвижным зеркалом леса,
над обгоревшей стернёй кукурузы высокой;
её иссохшие стебли, связанные вверху как вигвамы,
похожи на монахов-рыцарей, которым отпущены все грехи,
и вот идут они строем, строго и прямо,
а за ними белым посланцем тёмных стихий
лёгкая снежинка землю растревожить рада,
предтеча первого снега, ястребиным пером кружась;
это тяготенье к театру, эта пестрота, эта арлекинада —
что ж это, если не зрелище специально для нас?
Весь этот церемониал — ловушка календаря
с побелевшими вдруг придорожными гостиницами,
где прибита к дверям кукуруза —
"мементо мори" тыквы — ухмылка тыквенного фонаря,
и острый запах синего дыма как лезвие узок,
аромат причащенья и разложенья в амбарах полных зерном,
вот-вот октябрьские хлопья тебя унесут в глубины
безмолвной страны. Темнота успевает сгуститься,
лампы листьев догорают над кучками пепла, а потом —
зима, где ты — восклицательный знак на белой странице…
368.
Отлив — и риф на отдельные островки распадётся…
отлив истории друг от друга их отделяет,
море приносит вонь гниющих водорослей с окраин
старого городка, где дым флагами вьётся
над мусорными кучами у рыбачьих лодок и над мрачным деревом,
в тени которого раньше сидели на корточках рыбаки;
ржавая жестянка луны прокатилась над берегом
и застряла в илистом дне жёлтой реки.
Эти затхлые каналы были частью распада империи,
парламента, плохого водопровода, недоделанных дренажей;
а ещё кто-то, у кого ирония была ностальгии сильнее,
назвал это место "Конвей",
может, оно ему и напоминало знакомый когда-то
ирландский порт с яркими лодками у причалов,
а то, что люди тут вовсе другие — разницы мало,
и вспыхивало названье в ностальгии имперского заката
над лачугами, над кучами мусора, над развешенными сетями;
но бормоча слово "Независимость", поднялся последний прилив,
и начали спускать флаги, и они расползались как дым над кустами,
бульдозеры сгребли мусор, снесли лачуги, берега оголив;
длинные лодки, будто кайманы, сползли ближе к воде,
даже мрачное дерево и его замшелые сучья
уступили свою имперскую тень тому важному месту, где
выросли белые офисы. А назад оглянуться, ну разве лучше?
Ведь это значит вернуться к вони каналов…
Ну да, больше не существует Конвей,
но зато эти строки память достала
из его лачуг, из его рыбачьх сетей.
369.
Деревня в два часа пополудни это апатия настолько сильная,
что охватывает даже цыплят и внушает желанье камням
спрятаться от солнца, и от двери до двери десяток пыльных
шагов — целая экспедиция, а пальмы и миндаль вешают головы,
и пьяные старухи рассаживаются по бортам
ломаных лодок, слишком усталые даже чтоб попрошайничать,
а у парней осоловелый взгляд, который ничего не говорит,
ни "убирайся", ни "привет"; никакого шума, даже случайного,
с моря не слышно; к этому ты привык, и даль слепит,
но иногда что-то вдруг пронизывает отмели и они выдыхают:
"кроме огромного облака, за которым следят альбатросы,
ici pas ni un rien", здесь нет ничего. А ничто, nada — это такая
улица с острыми тенями и с продавцами спокойными, как их просо.
И странно подумать, что белые башни Гранады — тоже nada,
когда глядишь на этот бело-горячий пустырь, и даже
голуби, которые взрываются стаями над Сан-Марко — тоже
nada, так же как эти мерные шаги цапли,