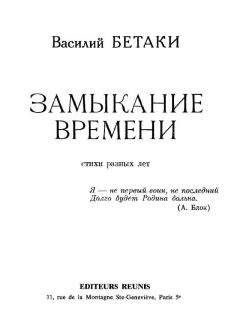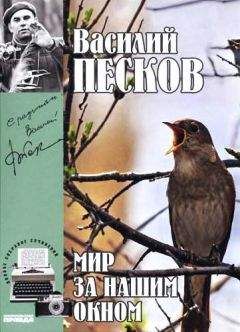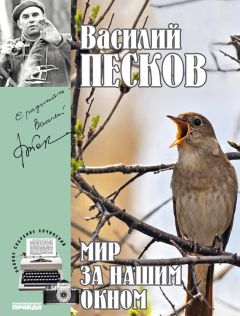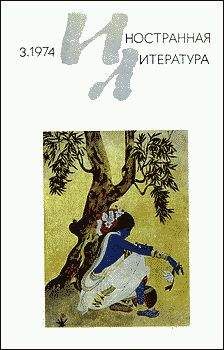nada, так же как эти мерные шаги цапли,
или круги альбатроса, патрулирующего лениво,
над крушеньем прибоя у скал, над ослеплённым заливом.
Только твоё воображение воспламеняет закатный
горизонт и окрашивает эти полчаса в цвет сожалений, когда
прибой, который старше чем твоя рука, пишет твёрдо и аккуратно:
"это ничто (nada!), и потому оно великое навсегда".
370.
Постарайся к этому не привыкать — качающиеся пушистые казуарины,
молчаливый утренний свет на лезвиях ярких трав под тобой,
грохочущее "Аве" океана, копья кораблей, белые и длинные,
грациозные чайки и цапли, перебирающий чётки прибой —
вот и всё, что тебе в твои годы остаётся и снится,
да ещё спокойное приближающееся угасание, как свет
заката на глине, да твой дар, выцветающий на этой странице:
двигалась улитка, твоя душа, вдоль единственного горизонта;
и после стольких лет —
бесконечность впереди, бесконечность и сзади,
всё, что знала, что любила она — было твоё ремесло, ну, что она
знала о смерти? — только то, что читал ты, в чужие страницы глядя,
будто меркнет фитиль керосиновой лампы, выгоревшей до дна,
будто падает ночь, но без этих звёзд, без колючих планет, без огней
большого порта, и похожа она на всепожирающее забвение;
так не привыкай к огромной луне, к ночам со шляпками гвоздей,
которые заставляют сердце спотыкаться, не привыкай к шевеленью
мыса с контуром льва, ведь всё равно уйдёшь,
восхваляя пушистое качание казуарины
и эту, так часто тебя пробиравшую, дрожь
благодарности, и вечерний свет на лезвиях трав, лёгких и длинных,
и то, как стираются с неба мачты, а затем и огни кораблей,
глядящих на свои отраженья в тёмном стекле.
371.
Я думаю о синтакисе цвета сланца, в котором
кварцевые проблески — это проблески точности слов и строк,
подмигиванье слюды — знак остроты ума.
Я не устал от выражений восторга,
но серые дни без отражений полезны, как вечером иссохший песок.
После падения сумерек я раздумываю, как избегнуть, по крайней мере,
мелодраматических, вроде смерти, пауз с восторженным словарём,
сожалений о потере, или об её отсутствии (нет любви, так нет и потери!),
но об этом надо только под сурдинку, чтоб было — как метроном
дыханья вблизи равномерного сердца.
Пауза. Опять. Пауза. Ещё. Другая…
Серая лошадь без всадника пощипывавает там, где и травы уже нет,
лошадь цвета сланца пасётся на остывшему берегу,
последние пучки выдирая,
и последний огненный разрыв — выключается свет:
солнце запирает свой дом на ночь, всё исчезает, даже сожаленье,
особенно сожаленье и раскаянье, и шум, и тоска — всё…
Только волны в темноте утешают недвижным движеньем,
этой монотонностью, всё те же старые новости не уставая таскать.
Тут — не только смертельное погромыхиванье прибоя, где мелководье чёрным
полощет горло, но что-то более далёкое, чем последняя волна,
чем острый запах водорослей, или побелевшие панцыри мертвых
крабов; что-то ещё более далёкое, чем звёзды на
чёрном небе, звёзды, "которые всегда
кажутся такими маленькими для бесконечных
этих просторов" (Паскаль), просторов, пугающих всех и всегда.
Я думаю о мире без звёзд и противоречий…
Ну, так когда?…
372.
Величественное всегда начинается словами:
"И вот я увидел" — наподобие вступительного аккорда,
а за ним клубятся, меняют форму апокалиптические облака,
и свет молчаливо ширящимся голосом мог бы сказать гордо:
"Эта взвихренная роза моря и неба расширяется на всю пустоту, пока
из неё выходят мои всадники: Голод, Чума, Смерть и Война".
А потом облака — это уже лавина черепов, катящихся потоком
по неподвижному гладкому свинцу моря. Начинаются времена,
когда штормовые птицы паникуют, и начинает бить колокол
в голове от качанья волн — звука такого на свете и не бывало,
это колебание всего — шеи кокосовых пальм
склонились, как шеи пасущихся жирафов. На темном песке стоял я
и увидел, что темнота, с которой я уже смирился, вдруг стала
изумляющей радостью, и в обещанной мне безвестности,
в галопе бурунов, во времени и в пространстве суждено сохраняться ей
без малейшей мысли обо мне, — только изменчивость и бессмертие —
зубчатая башня скалы, через которую силуэты белых коней
летели и пенились: передавалась им радость всадников,
суматохой головокружительного хаоса полнилась голова,
радостью листа в сильном порыве ветра, когда и впереди, и сзади,
между серыми проливами медленно стираются острова.
Но разве кто осмелится спросить у грома, отчего он? Нет.
Да будет записано: "Я благодарил и чёрные дни, а не только свет!"
373.
Были бы это острова из тех мифов, где лук натянутый помнит всегда
о полумесяце, от которого произошёл он, были бы на этих островах
не просто отмели, где искрится вода,
а острые скалы, где черноволосая женщина в слезах,
и чудовище, и прочих опасностей не счесть, ну хотя бы
кальмар, что над воющими пещерами торчит канделябром.
Было бы всё это так —
разве больше внимания обращали бы мы
на письмена мелей и на всё, что мыс упрятывает во мрак?
Могли бы мы прочесть слова кружащихся альбатросов и фрегатов
на древнем алфавите авгура, узнать секреты, скрытые в их потрохах?
Когда киль скребёт по песку и птица-перевозчик удирает куда-то —
ну что такое наша память, и что действительно в наших руках?
Какие узоры распутанных нитей нам возвращает прибой,
кроме тени странника на камне, раскалённом уже с утра,
если все герои других мифологий забылись сами собой —
и тот, кто бронзу ковал, и тот, кто сотворял молнии и ветра?
Ведь это ржавое ведро — не погребальная урна.
Из серебряных струй вытканы узоры древних ковров,
то дельфины, то драконы — эта ткань волнами раскатывается бурно,
извиваясь долгим путём от Геркулесовых столбов…
На картах Карибскому морю снится Эгейское,
а Эгейскому — Карибское, где тоже полно островов.
374.
Помнишь детство? Помнишь дождь, шуршавший вдали?
Вчера написал я письмо и тут же порвал в клочки.
Ветер унёс обрывки с холмов, и порхали они,
как чайки в Порт-оф-Спейн над долиной реки;
глаза наполнились старыми горестями до краёв,
будто лежу я в постели кверху лицом
и смотрю — низкие руины остаются от тающих в дожде холмов,
и всё пробую заглушить сердца смурного гром —
это дождь накатывается на Санта-Круз, следа не оставив от синевы,
щеки мокры, за последний луч солнца ухватываются холмы,
пока не исчезнут, а потом — далёкий шум реки, волны травы,
тяжелые горы… Тяжёлые облака тканью лиловой тьмы
последнюю яркую трещину затягивают, и мир
спешит возвратиться к мифу, к зыбкой молве,
к тому как было уже однажды, да, было однажды…
Помнишь похожие на колокольчики красные ягоды в траве,
кустарники вдоль дороги и церковь в конце неопытности,
и шум ля ривьер Доре, сквозь деревья слышный едва,
запах свиной сливы, которую с тех пор я ни разу не нюхал,
длинные тени на маленьких пустых дорогах, где сквозь асфальт — трава,
от мокрого асфальта подымается варёный
запах, и повлажневший воздух ненадёжен, зыбок,
а потом дождь зачёркивает часовню Ла Дивина Пастора
и жизнь, состоящую из невероятных ошибок?
375.
ИТАЛЬЯНСКИЕ ЭКЛОГИ
Иосифу Бродскому
Возле Мантуи, на слепящей дороге в Рим
слышу я темнобурых псов латыни;
в буйной радости ветра качается рис,
а они, высунув языки, мчатся вслед машине,
их тени скользят по обочине перевода,
гладкого как дорога, мимо рисовых стеблей,
мимо каменных деревень, мимо полей;
это в зелёной дымке несутся глаголы
из учебника, это Вергилий, Гораций
мелькают между стволами тополей;
это строки Овидия летят туда, где земные боги —
давно уже безносые бюсты на тенистых и длинных
аллеях; в те анфилады, где крыши когда-то были,
несутся строки к разинувшим рты руинам,
к статуям цезарей, чьи пресловутые тоги
уже давно состоят из одной пыли.
А этот голос шуршащий в рисовых стеблях —
твой голос! Место и время своё имеют любые строки…
Ты обновил форму строф. Эти стриженые поля —