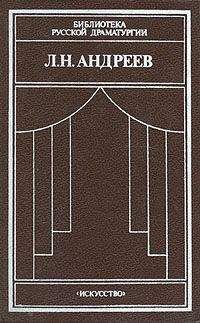актеры, о которыми он должен играть.
«Труппа, и в особенности актрисы,—неважные»,—пишет он
из Симбирска, недавно переименованного в Ульяновск (1924год).
«Ольгин очень скверно играет Порфирия и не помнит ни одной
мизансцены в «Царе Федоре». Идешь на спектакль, точно тяже¬
лый воз везти» (Омск, 1925 год). Это бесславное партнерство
убивает его, и он подолгу ведет репетиции давно игранных и пе¬
реигранных пьес. И актеры, даже если они закоренелые ремес¬
ленники, подтягиваются: конечно, переделать их трудно, но ка¬
кое-то впечатление ансамбля порой складывается. Он обламывает
«этих монстров», они терпят и даже не ропщут, поддавшись его
обаянию, такту и таланту педагога. Талант этот открылся у него
поздно, но теперь хирургия и врачевание на репетициях привле¬
кают его порой даже больше, чем игра в спектаклях. Его ре¬
жиссерские замечания немногословны, он показывает: жалко
улыбнется, вздрогнет и вскинет голову, как Мармеладов, или изо¬
бразит царскую стать Ирины в «Федоре», или вполтона сыграет
за Митю и Грушеньку объяснение в Мокром, и т. д. Женщин он
показывает с такой же легкостью, как и мужчин, может быть,
даже легче.
Иногда бывают у него и счастливые актерские дни. «Работаю
вовсю, чувствую себя хорошо, посылаю тебе вырезки из газет...».
Он радуется, что его фантазия не иссякла, что он нашел новое
для Освальда, которого сыграл больше тысячи раз. «Тем плат¬
ком, что на шее, в третьем акте я до боли скручиваю бессозна¬
тельно левую руку, чтобы отвести куда-нибудь боль от затылка, и
эта деталь всех захватила», в том числе и его не слишком чут¬
ких актеров. «Я так счастлив этим». Такие благословенные дни
случаются редко, очень редко. Письма Орленева знакомят нас
с его нелегкими буднями предъюбилейных сезонов. Но некоторые,
и притом очень важные, события его жизни не отразились в до¬
шедших до нас письмах. А эти события внесли свет и смысл в су¬
ществование обремененного заботами гастролера.
Он плохо запоминал даты и не путал только дни рождения
своих дочек — в августе 1923 года родилась Наденька, его семья
разрасталась. Ко всем другим датам, равно как семейным, так и
театральным, Орленев относился с равнодушием и, если бы не
заботливые друзья, не вспомнил бы, что в октябре 1923 года ис¬
полнится четверть века с того дня, как он в первый раз выступил
в роли царя Федора в Петербурге у Суворина. Московские теат¬
ралы увидели в этой дате достойный повод для чествования Орле¬
нева: скромный юбилей в преддверии большого общероссийского.
12 октября в театре на Большой Дмитровке он сыграл свою ко¬
ронную роль, волнуясь больше, чем когда-либо. Он понимал, что
москвичи, привыкшие за те же двадцать пять лет к Федору —
Москвину, встретят его с настороженностью. Выдержит ли он
это испытание? Ведь на премьере 1898 года он нашел для исто¬
рического сюжета А. К. Толстого современное преломление, и
зрители в его Федоре узнали интеллигента конца века. А теперь,
после всего, что произошло в России, девяностые годы ушли в та¬
кую туманную даль, что его искусство может показаться неснос¬
ным анахронизмом.
Усп.ех у него был большой. Даже Эм. Бескин, осудивший
пьесу Толстого как политический манифест русского либерализма
с куцей программой конституционных реформ, признал, что
в «том гуманитарном уклоне сострадания, в каком мы видели
пьесу на юбилейном спектакле, она жива только изумительной
игрой Орленева и иного оправдания не имеет». Игру Орленева
он назвал виртуозной, ювелирной, «огромным, почти классиче¬
ским образцом определенного сценического стиля» 13. Значит, тра¬
гедия сострадания, если найти для нее язык искусства, способна
задеть новую аудиторию — очень важное наблюдение для сомне¬
вающегося Орленева. А сравнивать его игру с игрой Москвина
трудно *. Театр — это не тотализатор с обязательным выигрышем
при обгоне, здесь может и не быть победителя в соревновании,
* Юрий Соболев все-таки сравнил, и получилось у него так: «Сила
очарования Орленева в Федоре не в москвинском постижении стиля и
духа эпохи, не в москвинской лепке тончайших черточек, а в смелой и яр¬
кой актерской игре на двух резко очерченных душевных гранях: на прос¬
тоте, скорее даже простачестве Федора и на том, что можно было назвать
«голосом крови», на той наследственности, которая «царя-пономаря» пре¬
вращала в грозного сына царя Ивана Васильевича».
потому что у каждого актера своя особая художественная за
дача. После спектакля на сцене в торжественной обстановке ему
вручили грамоту о присвоении звания заслуженного артиста Рес¬
публики.
Другое событие 1923 года было связано с задуманной Орлене-
вым книгой воспоминаний; дирекция Госиздата отнеслась сочув¬
ственно к этому замыслу и даже юридически оформила отноше¬
ния с ним. Позже он писал в отрывке, не вошедшем в мемуары,
о том, как приятно ему было «запечатлеть на бумаге» все пере¬
житое, и радостное и глубоко трагическое, и в процессе записи
своих воспоминаний он как бы «очищался в самом себе и даже
к лучшему и светлому перерождался». Писал он быстро, сразу
начисто, без помарок, но с перерывами, длившимися месяцы и
даже годы. В периоды, когда Орленев усиленно работал над кни¬
гой, уезжая на гастроли, он ставил условие, чтобы играть «в три
дня один спектакль», все остальное время он отдавал «своему
теперь любимому делу, само о себе все искренно и правдиво го¬
ворящему». Так в эти «годы итога» нашла выражение его потреб¬
ность в самопознании.
Были у него в эти годы и яркие художественные впечатле¬
ния, и среди них — московские гастроли Сандро Моисеи (1924—
1925). С немецким трагиком его не раз сравнивала русская кри¬
тика, указывая, например, на то, что, кого бы ни играли эти ак¬
теры, они всегда играли и самих себя. Поглядеть в такое зер¬
кало было заманчиво. Неожиданный интерес вызывала и биогра¬
фия Моисеи, он был военным летчиком во время первой мировой
войны и, кажется, даже побывал во французском плену. Среди
знакомых Павлу Николаевичу актеров были в прошлом люди
разных профессий: инженер и псаломщик, нотариус и пожарный,
но летчик — это нечто новое и очень современное. Несколько ве¬
черов подряд Орленев, по словам Дальцева, ходил на спектакли
Моисеи. Он смотрел «Эдипа», «Живой труп», «Привидения» и
«Гамлета».
Наибольшее впечатление па него произвел Гамлет — в скром¬
ной черной бархатной куртке с отложным белым воротничком,
частный человек, в гораздо большей степени представляющий
свою идею, чем свое время и среду, «отбросивший плащ и шпагу
и опростившийся до какой-то комнатности», как писала современ¬
ная критика. Орленев играл Гамлета иначе и не согласился бы ус¬
тупить в этой роли свои «мочаловские минуты». Он готов был спо¬
рить с Моисеи, но не мог не признать последовательности, изяще¬
ства и гармонии в его игре. Искрение, с грустью он сказал
Дальцеву, его постоянному спутнику во время этих гастролей:
«Куда уж мне! Какая техника! Какая мастерская игра!» и. Его
Гамлету, тоже не декламационному, при всей героичности как раз
не хватало гармонии. Не стоит ли ему вернуться к этой старой
роли? Он испытал чувство, которое не раз испытывал в прошлом,
когда сталкивался с такими актерами, как Станиславский и
Дузе,— может быть, попытаться и мне?
Какие странные закономерности бывают в театральном деле!
Есть города, где легко заслужить успех и само имя Орленева на
афише приносит сборы и доброжелательные отзывы газет. И есть
города, где к нему относятся почему-то придирчиво и он не знает,
что ждет его — овации или равнодушие зала и выпады критики.