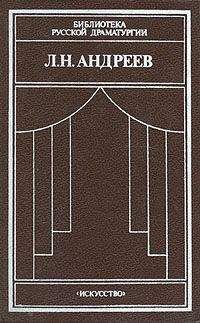пондентом журнала «Рабочий и театр», сказав ему, что «работник театра,
которому удалось создать нечто ценное», должен это ценное «не замуро¬
вывать, не музейничать», не приноравливаться к вкусам пресыщенных сто¬
личных зрителей, а «продвинуть в широкие массы, жаждущие театра, свои
достижения» 19.
** Любопытно, что в составе лепипградской делегации была старшая
дочь Орленева — Ирина, служившая тогда в Академическом театре драмы.
Эта неожиданная встреча очень обрадовала Павла Николаевича.
Может быть, это чувство появилось оттого, что была какая-то пе¬
ренасыщенность в похвале: неужели это все ему одному?! Чтобы
разогнать усталость, он пошел домой пешком по морозной, еще
снежной, ночной мартовской Москве и тогда подумал, что, пожа¬
луй, самым дорогим подарком для него в этот день было письмо
Станиславского... Юбилейные папки и сувениры кто-то из его
близких вез вслед за ним на извозчике.
Теперь вернемся к середине дня 8 марта. В послеобеденные
часы перед юбилейным празднеством, как обычно перед трудным
спектаклем, он прилег, чтобы отдохнуть, сразу уснул и не услы¬
шал стука в дверь. Дома была только нянечка Дуня, и она ска¬
зала неизвестному ей красивому и большому человеку, непохо¬
жему на тех знакомых, которые приходили к ним, что Павел Ни¬
колаевич отдыхает и просил его не тревожить. Потом еще раз по¬
смотрела па необычного гостя, которому, казалось, было тесно
в их квартире в Каретном ряду, и предложила все-таки разбу¬
дить хозяина. Гость ответил, что он пришел без предупреждения,
что беспокоить Павла Николаевича не нужно, и попросил лист
бумаги и чернил. Нянечка немедленно откликнулась, и Станис¬
лавский, а это был он, сел в полутемной проходной комнатке за
кухонный стол и написал письмо Орленеву, подлинник которого
теперь хранится в Театральном музее имени Бахрушина.
«Дорогой и сердечно любимый Павел Николаевич!
Доктор не разрешает мне быть на Вашем сегодняшнем тор¬
жестве сорокалетнего юбилея, так как я еще не оправился вполне
после болезни. Но мне во что бы то ни стало хотелось сегодня ви¬
деть и обнять Вас. Поэтому я поехал к Вам на квартиру. К сожа¬
лению, я попал не вовремя, так как Вы отдыхали перед спектак¬
лем, и я не решился беспокоить Вас. Мне остается последнее
средство, то есть письменно поздравить Вас и мысленно обнять.
В торжественные минуты человеческие сердца раскрываются и
хочется говорить о самых лучших и сокровенных чувствах, кото¬
рые скрываются в обычное время. Я пользуюсь таким моментом
сегодня, чтоб сказать Вам, что я искренне люблю Ваш прекрас¬
ный, вдохновенный талант и его чудесные создания. Я храню
о них дорогое мне воспоминание в самых сокровенных тайниках
моей души, там, где запечатлелись лучшие эстетические впе¬
чатления. Спасибо за них и за Вашу долгую и прекрасную
творческую деятельность. Она, как никогда, нужна теперь в труд¬
ное переходное время для нашего искусства.
Будьте же бодры, здоровы и сильны, чтобы еще долго радо¬
вать нас Вашим талантом и его новыми созданиями.
Сердечно любящий Вас искренний почитатель К. Станислав¬
ский»
Орленев убивался, что нс оказал Станиславскому достойного
приема. Но как хорошо, что из-за этого недоразумения появился
и дошел до нас документ такой силы.
Сколько было в его жизни таких праздников! Водевили у Кор-
ша. Утро после «Царя Федора», когда он проснулся знаменитым
на всю Россию. Премьера «Горя-злосчастья» в Голицыне. «При¬
видения» с его участием в норвежской столице. Вечера, прове¬
денные с Чеховым в Ялте. Слезы Толстого, взволнованного его
чтением. Прогулки с Плехановым по Женеве. Встречи со Станис¬
лавским. Овации в честь Раскольникова и Аркашки в Нью-Йорке.
И сколько, сколько другого! И последний триумф в Большом те¬
атре, когда на сцену, залитую светом, его вывели под руки —
справа А. А. Яблочкина, слева О. Л. Книппер-Чехова — и с верх¬
них ярусов на зал обрушился вихрь разноцветных бумажек с раз¬
ными надписями, в том числе, например, такой: «Орленев — это
прекрасная легендарная глава в истории русского театра. Мы
счастливы, потому что видели его». Было много и других надпи¬
сей, и смысл их сводился к тому, что имя актера навсегда оста¬
нется в памяти России. Это был высший его взлет. Почему же
в послеюбилейные месяцы его не оставляет тревога и дух его
в смятении? Как ему жить дальше? — этот неотвязный, давно
преследующий его вопрос теперь, когда к нему вернулась всерос¬
сийская слава, стал еще мучительней.
В юбилейной и очень дружественной статье в «Вестнике ра¬
ботников искусства» он нашел такие слова: в час итогов «мы
должны сказать — пора ему, уставшему, нора ему, горевшему»,
столько сделавшему для русского театра, дать «возможность рабо¬
тать спокойно и отдохнуть». Он был благодарен автору, но что-то
в этих словах задело актера; он постарел, но зачем так заботиться
об его отдыхе, разве уже исполнились все его сроки? И он стал
перечитывать и другие юбилейные статьи. Оказывается, и в «Но¬
вом зрителе» пишут о его усталости, и в «Жизни искусства» о по¬
кое, который ему пора обрести. Он сам давно думает о старости,
теперь об этом открыто пишут в журналах. Эта публичность его
пугает; он упрям и не хочет сдаваться, все лето и осень проводит
в поездках и, когда в конце сентября приедет в Ленинград и ре¬
портер вечерней газеты спросит — не утомляют ли его эти стран¬
ствия, он уверенно ответит: «Нисколько не устаю» 23. И скажет
это, не кривя душой. Да, такие вспышки бодрости у него случа¬
ются, и книга воспоминаний далеко продвинулась вперед, и нерв
в игре не пропал. Теперь у него на очереди роль Бетховена
в пьесе Жижмора, которую он недавно прочел. Но эти вспышки
длятся недолго, и в бессонные ночи он думает о том, что старое
уходит все дальше и «надо искать новое даже в старом». Он ведь
человек обязанный и перед своим призванием, не говоря уже
о том, что его младшей Наденьке только три года. Он берется за
«Бетховена» и пишет жене: «Я во всех своих достижениях шел
страдальческим путем и в конце концов многого достиг. Теперь,
чувствую, моя последняя ставка, и, конечно, все переживания во
мне больше обострены». Что принесет ему «Бетховен» — его по¬
следний шанс?
Н. П. Орленева, опираясь на записи о пьесе Жижмора, сохра¬
нившиеся в ее архиве, и семейные предания, пишет, что ее отца
в роли Бетховена увлек «мятежный дух и неистовство гения»,
замечая при этом, что мысли и чувства великого музыканта в ка¬
кой-то мере «резонировали его собственным мыслям и чувствам».
Нечто совсем иное мы узнаем из воспоминаний Вронского, играв¬
шего в «Бетховене» роль эрцгерцога Рудольфа и участвовавшего
в художественном оформлении спектакля. По его словам, Ор-
лепсв в этой роли «стремился провести одну мысль, которая пре¬
следовала его: символически изобразить распинаемого человека,
распинаемого мучительной загадкой жизни, бессильного против
обреченности и умирающего как бы на кресте. Он просил меня
сделать рисунок, чтобы заказать кресло, на котором можно было
бы повиснуть с протянутыми руками... И эту деталь он провел
в «Бетховене», когда пьеса шла в «Эрмитаже» в Москве» 24. Со¬
хранились воспоминания актера Гарденина, тоже работавшего
с Орленевым, в которых он пишет с не оставляющей сомнений
определенностью: «Одиночество и старость — вот что видел Павел
Николаевич прежде всего в Бетховене» *. Кто же прав в этом
споре мнений, кого играл Орленев: Бетховена — титана и непоко¬
ренного мятежника или Бетховена — жертву, распятую на кресте?
Несомненно, что Орленева в личности Бетховена привлекало