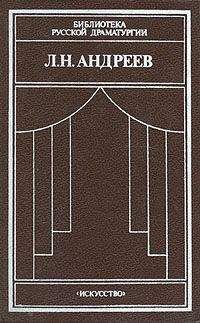«далась ему нетрудно», и объяснял почему: верующие родители
воспитали его в богобоязненном духе и с шести лет водили в цер¬
ковь; он часто бывал в детстве в кремлевских соборах и дворцо¬
вых палатах; церковного пения и колокольного звона он наслу¬
шался тогда на всю жизнь, «все эти элементы способствовали со¬
зданию образа Федора» 17. Орленев, хотя он происходил не из
такой богомольной семьи, тоже знал толк в церковной службе, и
ранние впечатления от истово молящейся православной Москвы
пригодились ему, когда он стал репетировать Федора. Но патриар¬
хальность, включая сюда религиозность,— только одна и не самая
существенная краска в его портрете последнего Рюриковича.
Я скажу больше: быт со всей его обрядностью служил Орленеву
всего лишь рамой, в пределах которой происходило психологиче¬
ское действие трагедии. Музей на сцене с его материальным об¬
разом Древней Руси, привязанность к хронологии, очевидные и
даже нарочитые анахронизмы не помешали драме Федора выйти
далеко за пределы обозначенной в ней эпохи.
На протяжении нескольких месяцев, почти года, Орленев чи¬
тал книги на темы русской истории, читал беспорядочно, но
в конце концов разобрался, что существуют две прямо противо¬
положные точки зрения на личность царя Федора; возможно, что
к этой мысли он пришел под влиянием взглядов Ключевского,
а возможно, что ее подсказал ему Суворин, который был вдохно¬
вителем и фактическим режиссером спектакля. Так или иначе,
у Орленева сложилось ясное представление, что если часть со¬
временников Федора (например, швед Петрей) писала, что ум
у него скудный, что физические немощи надорвали его дух и раз¬
витие этого «пономаря на троне» остановилось где-то на пороге
отрочества, то другая часть современников — «набожная и почти¬
тельная к престолу», по выражению Ключевского18,— окружила
его ореолом святости и подвижничества, лишив земного, житей¬
ского начала. Для критического изучения источников Орленев
был тогда недостаточно подготовлен, но он не принял ни кари¬
катуры на Федора, ни его идеализации, по-своему обоснованной
в старых книгах. Он отверг сплошь негативную версию, не при¬
украшивая при этом многих слабостей Федора и его природной
неспособности к государственному правлению. С такой же реши¬
тельностью он отверг и легенду о блаженном «освятованном»
царе, погрузившемся в «мнишество», как бы еще при жизни
вознесшемся на небеса и не нисходившем ни к чему земному.
На взгляд Орленева, Федор был высоконравственный человек
(его доброта превышала обыкновенные границы), но был челове¬
ком во плоти, доказательство чего он видел в любви еще совсем
нестарого, примерно тридцатипятилетнего Федора к Ирине,
любви самозабвенной, без понимания которой нельзя уловить гар¬
монию всей трагедии.
И еще один пункт в споре с источниками и авторитетами,
в котором Орленев проявил особую стойкость, никак не соглаша¬
ясь с тем, что Федор в трагедии Толстого — человек вялого и
ограниченного ума. У него не было согласия даже с самим авто¬
ром. Известный толстовский проект постановки «Царя Федора»
с его точным расписанием и толкованием лиц и действия, как
будто облегчающий игру актеров, в чем-то ее и затруднял. Во вся¬
ком случае, для Орленева; его искусство плохо мирилось с такой
предписанностью, ему необходимо было право на выбор, на им¬
провизацию. Он расходился с автором и в некоторых характерис¬
тиках Федора, его смущала, например, толстовская формула
«большой хлопотун» применительно ко второму акту, где герой
трагедии готовит примирение партий Годунова и Шуйских. Ор¬
леневский Федор был в этой сцене нервно подвижен, не суетлив,
а серьезно озабочен, что казалось особенно контрастным по срав¬
нению с его недавней детской беспечностью *. Вообще контраст,
столкновение несовместимостей, смешение красок — едва ли не
главный прием игры Орленева в трагедии. Про это много писала
в свое время петербургская критика. По словам А. Измайлова,
«глубокое впечатление производил контраст величия и немощи,
власти и бессилия, соединенных в лице этого последнего предста¬
вителя фамилии» 19. А известный уже нам Импрессионист в «Но¬
востях» восхищался «удивительным тактом»20 Орленева, благо¬
даря которому контрастные и раздробленные анализом черты его
героя сливаются в живой цельности.
У этого синтеза было много оттенков. С самого начала, еще
в первом акте, Федор разграничивает две области: политику, за¬
щиту государственных интересов, где прерогативы полностью на
стороне мудрого правителя Бориса, и область сердца, где ему, Фе¬
дору, плохому правителю, открыты все тайны («Здесь я больше
смыслю»). В процессе репетиций у Суворина возникло сомнение,
можно ли эти слова принять на веру, нет ли в них приманчивой
иллюзии или даже невинного хвастовства? Орленев не разделял
сомнений режиссуры, в его понимании Федор по самой природе
своей сердцевед, и такой проницательный сердцевед, что в ка¬
кой-то момент догадывается даже об измене князя Ивана Шуй¬
ского и, заметьте, не хочет с тем считаться, поскольку знает, что
не коварство, а прямота — исконное, коренное свойство этого бес¬
страшного рыцаря и совершенно неумелого политика.
Уже на исходе жизни Орленева, рано и тяжело постаревшего
и все еще не оставившего своего гастролерства, наблюдая за его
игрой, я мог убедиться, что его Федор при ввей импульсивности и
* Чтобы убедиться в этом, нужно посмотреть фотографии Орленева
в серии Мрозовской, начиная с № 10 до № 25, со слов: «Когда ж я доживу,
что вместе все одной Руси лишь будут сторонники?» — и до момента тор¬
жества и признания: «Спасибо вам, спасибо! Аринушка, вот это в целой
жизни мой лучший день!» Даже в этом чисто мимическом плане вы оце¬
ните глубину чувств Федора, ищущего путей примирения двух враждебных
партий в Русском государстве.
безотчетности поступков хорошо понимает самого себя и меру
своих возможностей. Более того, его самопознание («какой я
царь?») определяет внутренний характер драмы задолго до того,
как произойдет кровавый крах той программы всеобщего согла¬
сия, к которому он стремится. Судите сами: можно ли упрекать
в умственной вялости человека с такими добрыми порывами,
с такой нравственной мукой («Нравственная борьба клокочет
в душе Федора»21), с такой резкостью самоощущений? Недаром
Н. В. Дризен поставил в вину Орленеву, что в его Федоре преоб¬
ладал «культурный облик» 22, то есть что он играл царя-интелли-
гента, носителя духовного начала по преимуществу. Но это был не
просчет актера, а его сознательная позиция.
Для такой позиции у Орленева были веские основания. Ведь
сама идея возвышенного, облагораживающего влияния Федора и
связанной с тем драмы принадлежала не только ему. Он мог ее
вычитать у летописцев начала XVII века, например в записях
дьяка Ивана Тимофеева, очень сведущего наблюдателя, так оце¬
нившего связь Федора с Борисом: «Мню бо, не мал прилог и от
самодержавного вправду Феодора многу благу ему навыкиути, от
младых бо ногот придержася пят его часто» 2з. Из сказанного сле¬
дует, что слабый Федор оказывал доброе влияние на сильного
Бориса. Но помимо мотивов исторических, почерпнутых в источ¬
никах, в этом симпатичном образе мятущегося царя надо еще раз¬
личать мотивы личные, орленевские, его жажду совершенствова¬
ния в духовном плане и его литературные страсти-привязанности.
Начну с литературы. Через несколько дней после премьеры «Фе¬
дора», когда драматурги толпой кинулись предлагать Орленеву
свои пьесы, знаменитый инсценировщик Крылов (вместе с менее