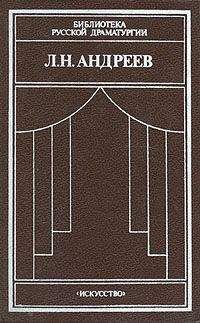с Мгебровым, тогда служившим у Комиссаржевской. К тому
времени Павлова как актриса уже заметно выдвинулась, но ее
положение в труппе мало изменилось. Орленев по-прежнему был
с ней сдержанно сух, сохраняя тон, исключающий всякую бли¬
зость, и она по-прежнему горевала и не знала покоя. Мгебров
отнесся к ней участливо, и, проникнувшись к нему доверием,
она со слезами на глазах рассказала, как «ей бесконечно тяжело
с Павлом Николаевичем, но уйти от него она не в силах, потому
что безумно его любит и много получает от него как от худож¬
ника и человека, несмотря ни на что» Итак, ее любовь была
горестно безответной.
И вдруг все изменилось: Павлова стала первой актрисой
труппы, подругой Орленева, его советчицей, его режиссером, его
постоянной спутницей, с которой он делил труды и досуги.
У нас нет данных, в силу чего произошел такой перелом. Может
быть, потому, что он наконец оценил ее оригинальный талант
артистки? Может быть, потому, что устал от игры в Бранда
с его неприятной ему нетерпимостью и ригоризмом? Может быть,
потому, что он перетянул вожжи и убедился, что его ученица
дошла до последней точки отчаяния? Каждый из этих мотивов
имеет свой резон, и мы не знаем, какому из них отдать предпоч¬
тение; во всяком случае, наступил недолгий век их согласного
партнерства — конечно, с учетом того, что он был знаменитый
и многоопытный актер, а она делала первые шаги в искусстве.
О том, какое место в 1907—1910 годах Павлова занимала
в жизни Орленева, мы можем судить по его письмам к Плеха¬
нову и Тальпикову. В письме к Плеханову из Харбина есть та¬
кая фраза: «Глубокий, сердечный привет всей Вашей семье и от
меня и от моей сподвижницы Танюры, которую Вы знаете и лю¬
бите» 2. А в многочисленных письмах тех лет к Тальникову он
никогда не упускает случая сослаться на Павлову, на ее мнение,
на ее пожелания: «Суворин оказался «старым хламом», как меня
Таыюра называет, она теперь ждет Вас со всем восторгом моло¬
дой нетронутой души» (1907); «Я, Дэви, много писать тебе не
буду, знай одно, и это наверное, ты нечто единственное, что мы
с Ташорой хорошо, тепло, даже горячо и нежно любим» (1909) 3.
Он так связал свою жизнь с Танюрой, что и шагу без нее не мог
сделать.
Казалось, все обстояло как нельзя лучше. Они много стран¬
ствовали по России, сборы были хорошие, рецензии, за некото¬
рыми исключениями, тоже хорошие. Вместе ездили за границу,
побывали в Вене, в прославленном Бургтеатре и артистических
кабаре, потом отправились в Женеву, где дали два спектакля для
русских эмигрантов и на одном из них познакомились с Плеха¬
новым. У них были общие интересы, общие знакомые и начал
складываться общий быт. И это благополучие тревожило Орле-
нева, правда, пока он не показывал вида, что его тяготит моно¬
тонно налаженная семейная жизнь и возможная оседлость (все
то, что он презрительно называл бюргерством), но уже знал, что
добром их супружество не кончится. Он не хотел менять воль¬
ность на комфорт и, понимая, что не найдет сочувствия у Павло¬
вой, решил уйти от нее тайком, без объяснений и прощаний.
В мемуарах Орленев пишет, что поводом к этому разрыву была
угроза со стороны родителей Павловой: они намерены были вме¬
шаться в их жизнь и в его дело; он не стал этого терпеть. Воз¬
можно, что такой повод, действительно, был, но причина глубже:
он хотел остаться верным самому себе и тому образу жизни, ко¬
торый однажды избрал. Уход Орленева был тяжелым ударом для
Павловой, она долго болела, и прошло несколько месяцев, пока
пришла в себя. Но, как видите, зла не затаила и спустя десяти¬
летия написала воспоминания, приведенные в нашей книге.
В эти сравнительно благополучные годы Орленев много ра¬
ботал, хотя новых сколько-нибудь заметных ролей не сыграл. Он
стремился кончить то, что давно начал, и, чем больше углуб¬
лялся в давно знакомый текст Бранда и Гамлета, тем лучше
понимал, как далека от завершения его работа над этими ро¬
лями. Перед величием Гамлета он робел, это был самый трудный
экзамен в его жизни, и он погрузился в неохватный мир коммен¬
тариев к Шекспиру *. Точно так же не сразу прояснилась идея
* В заметках Орленева к «Гамлету» мы находим ссылки на Гёте, Коль¬
риджа, Шлегеля, Белинского, Тургенева, Тэна, Анри де Ренье, Брандеса
и современных журнальных авторов.
«Бранда», в силу рационализма Ибсена не допускающая недо¬
молвок. Автор всему нашел имена в своей философской драме, но
этот порядок и устроенность тоже требовали расшифровки для
сцены. Начинать надо было с «Бранда», потому что он значился
в текущем репертуаре,— это была реконструкция на ходу, в про¬
цессе работы, выпуск же «Гамлета» все откладывался и откла¬
дывался.
За роль Бранда Орленев всерьез взялся в плохую минуту
жизни, вскоре после того, как от него ушла Назимова, и, угне¬
тенный одиночеством и необратимостью случившегося, он искал
опоры в творчестве. Первое впечатление от этой старой пьесы
было оглушающим («чувствовал невероятную потребность в са¬
мопожертвовании»), на него обрушилась лавина; ничего похо¬
жего он никогда не читал и, конечно, не играл. Он часто повто¬
рял некоторые афоризмы Ибсена, такие, например, как «всё или
ничего», где в трех словах выражена ненависть Бранда к крохо¬
борству («быть немножко и тем и сем»), к духу компромисса,
к дроби, которая поглощает целое. Сильное впечатление на него
произвели слова Бранда: «Чем ниже пал, тем выше поднимись!»
Такая вера в возможность возрождения в ту пору душевного
упадка, далеко не первого, но особенно болезненного, казалась
ему спасительной. И он стал разучивать монологи Бранда, еще
не найдя формы для сценической композиции пьесы.
Учиться мужеству у Бранда было не просто. Первое сомне¬
ние возникло в связи с духовным званием героя: Бранд — свя¬
щенник, и не придаст ли это его бунту узко религиозный харак¬
тер? Орленев не знал тогда об одном интересном признании Иб¬
сена, сделанном еще в 1869 году. «.. .Я мог ту же самую идею,—
писал он,— воплотить в скульпторе или в политике так же удачно,
как и в священнике. Я мог так же точно воспроизвести настрое¬
ние, побуждавшее меня работать, если бы я вместо Бранда из¬
брал, например, Галилея» 4, с тем, правда, условием, чтобы он до
конца стоял на том, что земля вертится. Значит, сан священника
в этом случае только внешний признак, только форма. Понадо¬
билось известное время, чтобы Орленев убедился в универсаль¬
ности разрушительной идеи Бранда. Возможно, что какую-то
роль здесь сыграли поражавшие его дерзостью богоборческие мо¬
нологи героя Ибсена; он с яростью обрушивался на «бога отцов
и дедов», столь состарившегося и одряхлевшего, что его в пору
изобразить в очках, лысым, в ермолке и домашних туфлях...
Сарказм такой убийственный, что речь уже не может идти только
о реформе церкви!
Сомнения Орленева вызывала и двойственность художествен¬
ной манеры пьесы. С одной стороны, у Ибсена подчеркнутая кон-
фетность: северная природа с ее горными вершинами в тумане,
озерами, крутыми обледенелыми тропами, снежными бурями,
скудный быт норвежского рыбацкого поселка, где жизнь идет
«похоронным шагом»; среди действующих лиц незнакомые нам
пробст, фогт, кистер, что тоже усиливает национальную окраску.
G другой — мир символов, титанизм Манфреда и Каина, вмеша¬
тельство запредельных сил и диалог с ними: видение в облаках
в образе женщины в светлой одежде, невидимый хор, голос, про¬
рывающийся сквозь раскаты грома,— в общем, приемы театраль¬
ной эстетики романтической школы с ее стилизацией и условно¬
стями. Где же пересекаются гнетущая материальность быта