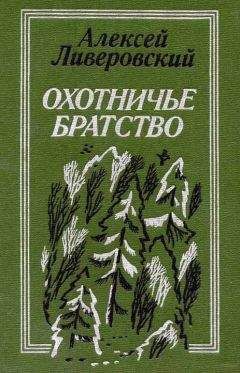Один котелок мы выпили, я пошел за водой. Солнце поднялось высоко, разгорелось, распаяло снег. Зашумела, забуянила вешняя вода. Быстро вытаивал угор над болотом. Из каждого островка снежной крупы струился язычок прозрачной влаги, сливался с соседним и с легким шумом бежал вниз по склону. На глазах верховодка синила, заливала белую гладь мшаги. В высокой голубизне вихлялась в брачном полете пара воронов. Плавно, одна за другой летели чайки, все в одну сторону: искали или нашли уже где-то открытую воду. На проталинах земля парила и пахла весной.
Осторожно черпая кружкой в котелок, отодвигая плавающую хвою и палые листья, я думал о Мише, пытаясь угадать, почему в его, в общем-то, печальных глазах иногда проскакивали веселые, живые искры.
Костер догорал: Мише трудно было подсовывать тяжелые плахи. Он устроился поудобнее на чурбане, курил, посматривая на солнце, видимо прикидывая, который час. О чем-то сосредоточенно думал, то хмурился, то улыбался. Я сел рядом и доверительно положил руку на его здоровое колено. Он пошевелился, бросил папироску в огонь, проследил, как она вспыхнула, сказал: «Не надоело? Я все про свое. Да ладно, скажу…»
Совсем рядом дико затрубили журавли. Они шли по кромке болота, поклевывая клюкву, поравнялись с лагерем, заметили нас и костер, взлетели с криком. Миша проводил их глазами, хитро прищурился:
— У Опроски-то, у жены, ружье было припрятано. Понял? Та самая тулка. Помнишь? Шестнадцатого калибра, левый ствол от пули раздутый.
— Помню, помню.
— Ну вот. Было в первый год, как вернулся. Перед праздником у жены большая приборка. Тащит, прячет, мимо меня ружье. Я ей: «Оставь, не выноси, пусть дома. Есть не просит». Повесили на стенку. Привык и не замечал. Ко всему привык — жил.
Миша костылем вернул в костер откатившуюся головню, положил костыль рядом, протянул обе руки — одну повыше, другую пониже — в грустном жесте отрицания, повторил: «Жил, — и добавил: — И не жил». Тут же оживился, как бы разгорелся, продолжал весело и торопясь:
— Знаешь, в тот год какая весна была? Всю зиму морозищи, снега… и разом! Как с печки. Потаяло, потекло. Вышел на крыльцо — гуси… Летят. И так меня зацепило, потянуло, ну и не выразить. Вошел в избу, дома никого, я за ружье. Снял со стенки, пробую: левой рукой, порченой, снизу поддерживаю, правой навожу на спуск — пальцы, те владеют нормально. Будто получается. Залез в ящик, смотрю, какой припас сохранился. Давай патрон сготовлю один — спробую. Зарядил ружье, из печи уголек в карман, ползу во двор. Прокостылял к сараю, на двери углем мошника обрисовал, большого, хвост распущенный. Отошел, на костылях укрепился, целил, целил — ка-ак грохну! Курицы лётом через забор, меня отдачей — наземь. Барахтаюсь в навозе. Из сеней Опроска бежит, лица нет: «Ты что, ты что?!» Плачет, смеется; а я, хоть издалека, вижу — попал: дробин десять, не меньше.
И, скажи пожалуйста, в тот же день гляжу из окна — летят. Пара кряковых: матка, за ней селезень увязавши. Круг над деревней сделали и сели в проточину за баней. Мечтаю, баня от воды близко — с угла аккурат будет. Зарядил еще два патрона, ружье на плечи, покостылял. До бани натоптано, дальше —. ползком по целику. Выглянул — здесь! Стрелил — утка улетела, селезень остался. Мальчишки на выстрел прибежали, достали длинной палкой.
С тех пор началась моя мука и радость. Летом на речке в грязной заводинке уток караулил. Мало когда прилетали, а бывало. Терпенье большое надо, когда ходишь худо. Снег выпал, сам саночки уделал: стоечки для костылей, два крючка для ружья. Опроска помогала шалашки строить, тетеревиные чучелки поднимать. По темному вывезет меня, в обед увезет, конечно. Смехи! Один раз — погода морозлива, солнце высоко, пора домой, озяб дюже — жены нет и нет. У нее как раз корова никак растелиться не могла, с фермы не уйти. Бежала до самой шалашки, самогон в бутылке принесла: «Пей скорей! Бедный ты мой!»
Потом навадился таким манером, с бабьим транспортом, в лунные ночи зайцев со стога караулить. Наконец стакнулся с дедом Николаем по лисьему делу. Он — так ничего, бойкий, ходит хорошо, стрелять не может, руки трясутся. По порошке зафлажит лисицу, придет: «Готов? Опроска, подавай автомобиль!» Завезут меня вдвоем в круг, сами гонят. Веришь ли, в первую же зиму восемь лисиц добыли.
Сначала совестно было. Идешь по деревне с ружьем, бабка, не суди, вроде чертовой Гришшихи, вякает: «Куда ты, убогий? Полесник без ног. Не смеши людей. Торнешься где в бочаг — и концы, ищи тебя всей деревней». Потом привыкли, ничего.
Так и жил. Нынче, как завесняло — нет покою! Знаю, что на Липняжном обязательно поют, и тянет, и тянет. Помнишь, как я на мошниковы токи любил ходить? Страсть как любил. Сам себя уговариваю: «Куда ты, черт, дурак, собрался? Зачем тебе глухарь? Мясо постное, путних щей не сваришь. На санках не проехать, пешком не добраться, пропадешь ни за грош с мошниками-то. Брось и думать». Куда там! День пройдет — весна все ярче. Опять мечтаю: «Не так далеко до тока. Может, на гривке поют, там, поди, вытаяло, тропина ровная, чистая. Дошахаю как ни на то». И вот пошел, дурость такая, а он не на гриве — в болото утянул. Хорошо, тебя бог принес. Прикури-ка еще папироску.
Миша взял ее, затянулся, закончил раздумчиво и уверенно:
— Охота, охота… сила необоримая.
Мой брат по приглашению неизвестного мне охотника раза два ездил куда-то на полигон и привозил большую добычу. Что это за полигон, я не знал, но корзиночки дичи, в которых лежали тетерева и белые куропатки, выглядели весьма соблазнительно. Узнал я еще, что у этого охотника хорошая легавая. Первый раз появился в нашей квартире на полчаса и стал другом на всю жизнь — адвокат Андрей Юрьевич Борхов. Толстенький, весь какой-то круглообкатанный, неизменно веселый, сыпавший рассказами из своей богатой юридической практики. Постепенно я узнал все, что касалось его как человека, а потом и как охотника.
Он был сыном петербургского дельца — очевидно, состоятельного человека. Сам Андрей кончил в Петрограде реальное училище, а высшее учебное заведение — в Гейдельберге. Естественно, бегло говорил по-немецки, знал и английский. Вскоре получил хорошую практику. Будучи еще студентом, попал в Архангельск, влюбился там в красавицу Серафиму, купеческую дочь, и отпраздновал пышную свадьбу. Серафима Николаевна — женщина редкой красоты, чисто северной, волоокая, с дивными светлыми волосами. Андрей, хвастаясь, говорил: «Надоели Мишке, — так он называл жену, почему неизвестно, — художники, все время предлагают ее рисовать». Будучи девушкой образованной и эмансипированной, она принципиально не захотела быть только женой и после переезда в Петроград устроилась в школе преподавать русский язык. Позже окончила высшее учебное заведение и стала уже лингвистом, научным работником. Андрей обожал свою жену и в нашем клане в этом отношении был образцом. Когда заходил разговор о прочности и непрочности брачных уз, об очередном разводе и кто-нибудь из скептиков говорил: «Нет на свете счастливых браков!» — все хором возражали: «А Борховы?» Детей у них не было. Может быть, потому они были особо внимательны и нежны друг к другу.