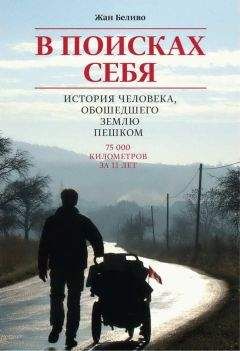На этот раз примерные даты моего возвращения и та поспешность, с которой я иду навстречу своей любимой Люси, порождают во мне новые и новые страхи. На этой безлюдной земле неподалеку отсюда есть громадная дыра — пятьдесят метров в диаметре и минимум триста метров глубиной. Эта огромная яма из серых камней с холодным дном называется «Тревожной»; от нее нужно держаться подальше, чтобы не свалиться и не погибнуть на ее дне. Однажды утром я неспешно шагаю по саванне, мысли мои спокойно витают в облаках над ней, и вдруг на лету я выхватываю из общего потока одну беспокойную мысль: «А где сейчас моя Люси? Что она делает? Все ли у нее в порядке?» Ужасная неосмотрительность! Стоит этой мысли поселиться в моей голове, как она захватывает меня всего, вырастает и повсюду распространяет свой яд. Вот уже неделю я не получал вестей от Люси, хотя мой мобильник несколько раз умудрялся поймать местные сотовые сети. Где же она? Вдруг она попала в аварию или, хуже того, на нее кто-нибудь напал? Я представляю ее одну, беспомощную, лежащую без сознания на холодном полу нашей квартирки… А я здесь бегаю по раскаленной саванне, размахивая мобильником, прыгая по камням в надежде поймать сотовый сигнал. И никаких новостей. Ничего! Поэтому я продолжаю ускоряться, гонимый необходимостью как можно скорее добраться до Кэтрина, откуда наконец смогу позвонить, позвать кого-то на подмогу, вызвать ей скорую помощь! И чем быстрее я бегу, тем живее разыгрывается мое воображение. Я слышу, как она зовет меня, молит о помощи. Я мчусь! Теперь я и кровь разглядел! Наверное, она упала и ударилась головой о край стола! Скорее, ну скорее же! Я должен успеть… Усталость, жара, усиленная подпитка кислородом моего головного мозга по мере того, как я ускоряю бег, без сомнений, приближают и мое сумасшествие. К счастью, этот криз проходит сам собой еще до того, как я вбегаю в город. Изо всех сил пытаюсь успокоить воображение, привести в порядок чувства и сконцентрироваться на собственных шагах. Дыши, Жан. Иди. Иди. Верь в жизнь. Верю, верю… И когда я наконец прибываю в Кэтрин, то выгляжу абсолютно нормально.
Впрочем, было бы странно, если бы такого типа, с ног до головы покрытого дорожной пылью, с десятидневной щетиной и детской колясочкой, люди воспринимали как нечто нормальное. Хорошо, что в буше, в отличие от Нью-Йорка, никто к этому не придирается. Прислушиваясь к мелодиям этих краев, доносящимся из динамиков на городских улицах, я начинаю знакомство со вкусами и нравами местного населения. Стараюсь собрать о них как можно больше информации, прежде чем приступить к самой, на мой взгляд, изнурительной части путешествия по Австралии. На протяжении следующих семисот километров пустыни, которая отделяет меня от Теннант-Крик, мне встретятся лишь два крошечных поселка. По радио передают песню It's a long, long way…, но местные жители успокаивают меня: на пути я обязательно найду источники с водой. Скорее всего, это будут какие-нибудь водоемы, расположенные в сотне километров друг от друга, но пить из них мне придется на свой страх и риск. В уголке страницы моей записной книжки незнакомый мужчина неразборчиво рисует схему:
— В тридцати километрах отсюда, слева от моста увидишь контейнер с водой неподалеку от балки. Еще в тридцати пяти километрах, на перекрестке с грунтовкой такая же штуковина, чуть левее, рядом с бетонной трубой.
Я ухожу из города, до отказа набив свою коляску съестными припасами. Взгляд мой прикован к линии горизонта, за которым теряется бесконечная лента дороги. В течение дня я периодически настолько погружаюсь в себя, что, очнувшись через несколько часов в неизменно пустынном пейзаже, всерьез предполагаю, будто не сделал за это время ни шага. Даже иссушенная красноватая земля под ногами остается такой же, такие же кустики и колючки торчат из нее, такие же камни валяются вокруг, и никто не знает, как они сюда попали, кто их принес, сколько веков тому назад. Все тот же асфальт неизменно скрипит под моими подошвами. И только заходящее солнце сообщает о том, что действительно прошло какое-то время. Мне жарко, очень жарко. В горле пересохло. После Кэтрина один из лимфоузлов, под нижней челюстью слева, здорово распух. Я надеялся, что мой иммунитет справится с инфекцией, но, увы, эта шишка все-таки вылезла. Может быть, обжигающий воздух пересушивает глотку? Дорога невыносимо длинная, полная испытаний, но я стараюсь сохранять ледяное спокойствие, преодолевая последние на своем пути трудности. Примерно через месяц я попаду в Маунт-Айза, а за ним деревеньки будут встречаться на моем пути каждые пять-шесть дней… Это будет совсем простой маршрут! Но сейчас, на пике моего одиночества, тело почему-то решило прийти в негодность. Я по-прежнему питаюсь консервами из банки и всухомятку, упаковками проглатываю быстрорастворимую лапшу. Поскольку больше тридцати литров воды моя коляска просто не выдержала бы, решение нормировать свой паек показалось вполне разумным. Тем временем наступает ноябрь, я очень надеюсь избежать дождей, хотя ночи становятся все более прохладными, а спальника у меня больше нет: я отдал его сыну во время нашей последней встречи на Филиппинах. Тепло, которым солнце питает землю в течение дня, ночью быстро растрачивается. Но пока этого достаточно, чтобы я в своей палатке не сильно замерзал. Часами лежу на полу, глядя в звездное небо, и поджидаю то волшебное мгновение, когда около трех часов ночи проснутся птицы и, сопровождаемые светом луны, наполнят эту безжизненную пустыню своим мелодичным пением, умопомрачительной одой самой жизни.
10 ноября я, грязный и оборванный, сделал остановку в «Доме у трех дорог»[128] неподалеку от Теннант-Крик. Пресытившись за время пути консервами и сухими полуфабрикатами, я заказал шикарный завтрак в ресторанчике возле заправочной станции. Неспешно вкушаю его, чувствуя на себе насмешливый взгляд хозяина, устроившегося возле кассы. Мой нелепый наряд и моя прожорливость порядком веселят его.
— Тебе что-нибудь нужно? — наконец интересуется он. — Отсюда и до самой Маунт-Айза нет ничего. Вон те парни тебе запросто помогут!
Я выглядываю в окно и вижу на парковке двух человек в форме. Полицейские Дэниел и Дэвид с радостью приходят мне на помощь и везут меня за покупками прямо на патрульной машине. Я спрашиваю, не сильно ли их напрягает моя просьба, но они только отмахиваются: шутишь, что ли? Теннант-Крик считается в Австралии местом повышенной преступности. «Почему? Семейные ссоры?» — выдвигаю я свою версию. Они кивают. «Аборигены?» Они качают головами. Как и в моей родной Канаде, здесь не принято выносить на люди и обсуждать проблемы какой-то конкретной народности. Это своего рода социальное табу. Где бы ты ни находился… Свыше трети населения города — а это порядка трех тысяч жителей — аборигены Аутбэка. Многие из них, как и в других местах, страдают от алкоголизма, супружеского насилия. Общее состояние здоровья населения плачевно, а вот уровень преступности довольно высок. Свыше четверти заключенных в этих краях — туземцы, несмотря на то что по всей стране они составляют не более двух процентов населения. По фасадам домов на главной улице Теннант-Крик можно запросто прочесть всю историю города и пригородных туземных поселений лучше, чем об этом расскажет самый подробный путеводитель. Служба социальной взаимопомощи, юридическая консультация, здание суда, полицейский участок… Ничего не поделаешь, вздыхает Дэвид. Какие бы программы ни запускало государство на своем уровне, ситуация ухудшается. Делая нужные покупки в супермаркете, где цены бьют все возможные рекорды, я задумываюсь, на что могла бы быть похожа жизнь в этих краях, если бы здесь не гнались так отчаянно за наживой. Золотая лихорадка, жадность, алчность, наполеоновские планы и пары алкоголя начали атаковать эти мирные края в тридцатых годах прошлого столетия. А спустя еще двадцать лет искатели приключений и наживы ушли отсюда, оставив после себя разграбленные земли и покосившиеся лачуги. На пересечении двух крупных дорог, тянущихся с юга и с востока — словно в наследство, — остался стоять Теннант-Крик. И туземцы, жившие в этих местах на протяжении сорока тысяч лет, тоже остались. А все остальное поменялось.
Я ухожу со Стюарт-хайвей, чтобы отправиться на восток, в сторону Квинсленда, по Баркли-хайвей. В своем воображении я рисовал немного иную картину — не такую пустынную трассу, как предыдущая. Но она оказалась еще хуже. Воздух невыносимо сухой и горячий, на прозрачном голубом небе нет ни облачка, разве что мелькнет какое-нибудь совсем крошечное. Солнце напоминает огромное белое пятно, как от лампы в камере для допросов, и всерьез грозит сжечь сетчатку моих глаз, так что я даже не пытаюсь поднять глаз. Осматривая горизонт, я порой вижу воду — миражи! — и говорю сам себе, что уж там-то точно сделаю привал, чтобы перекусить, выспаться и подарить своему усталому телу заслуженный отдых. Я пытаюсь хоть как-то мотивировать себя, но усталость берет верх. От переутомления я буквально раздваиваюсь, колеблясь между одержимостью и унынием. Но продолжаю идти, и идти, и еще идти, и взгляд мой прикован к белой полосе, тянущейся вдоль обжигающе горячего асфальта. Время от времени мне наносят визиты крошечные торнадо, нарушая своим появлением монотонность путешествия. Однако следом за ними налетают новые порывы сухого горячего ветра, который дует мне прямо в лицо так сильно, что я вынужден, напрягая все мышцы, толкать из последних сил вперед свою колясочку, проклиная ее неподъемность. Очень дорого обходится людям их жизнеобеспечение: сколько воды и еды я тащу с собой, это просто ужас! И черт знает, почему мы столько едим?! Я ищу хоть какой-нибудь повод отвлечься от своего праведного гнева, но не нахожу ничего, совсем ничего, ровным счетом ничего.