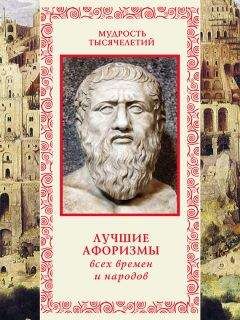его креслом; оттуда он стрелял своими остротами по адресу присутствующих, и совершенно безнаказанно, потому что все его боялись. По этому поводу Менаж говорит: «Однажды я обедал у короля, тут же был и Л’Анжели, но я с ним ничего не говорил, потому что не хотел слышать от него что-нибудь неприятное».
Человек, которого Л’Анжели не переставал трогать своими шутками, был Гийом Ботрю, нечто вроде bel esprit, который постоянно сыпал шутками и остротами. Это продолжалось в течение пятидесяти лет; он постоянно был в большой дружбе со знатью и с министрами. Разыгрывать роль шута в обществе было очень выгодно. Ботрю обязан этому тем, что сделался графом де Серан, посланником в Голландии, потом в Испании и затем в Англии, и был даже одним из первых сорока Французской Академии [69]. Однажды Л’Анжели был в одном обществе, забавляя его своими шутками, как вошел Ботрю. Лишь только Л’Анжели заметил [его], как сказал: «Вы пришли очень кстати, чтобы мне помочь, я уже начинаю уставать, потому что совершенно один занимаю все общество!» – Ботрю прошел мимо шута, не возразив ничего на его восклицание: вообще, он относился к этому шуту с презрением и никогда не отвечал на его выходки.
Вообще, Л’Анжели преследовал всю семью Ботрю.
Он дурно обращался и с графом де Ножан, братом Ботрю. Однажды граф де Ножан явился на обед к королю, входя со шляпою в руке и с самым почтительным видом; Л’Анжели подошел к нему, надел на голову свой шутовской колпак и сказал: «Наденемте наши головные уборы, это не может иметь для нас никаких последствий».
К несчастью для Л’Анжели, не все лица, которых он избрал мишенью для своих насмешек, принимали это так равнодушно, как Ботрю. Говорят, что граф де Ножан умер от горя, что его сравнили с Л’Анжели в присутствии короля. Другие лица, менее чувствительные, но более мстительные, до такой степени вели удачно свои интриги, что добились высылки шута, которому пришлось размышлять в уединении о той опасности, которой подвергаются люди, когда осмеливаются задавать самолюбие сильных мира сего.
Л’Анжели был последним официальным шутом. Людовик XIV не заменил его никем; у этого монарха уже более не было и тех случайных шутов, как, например, Жан Дусе, если только не считать королевским шутом Дюфрени [70], принимая за серьезное слова Вобана. За ужином после взятия Лилля, во время войны деволюции, или прав королевы, в конце августа 1667 года Людовик XIV приказал Дюфрени спеть какую-нибудь песню в честь успехов французского оружия. Дюфрени не умел прославлять Марса и предпочел спеть песню «Сбор винограда», и все ей аплодировали.
– Кто этот красивый юноша? – спросила одна дама у Вобана.
– Этот красивый юноша, – ответил важный инженер, – шут короля.
– Вобан прав, – прибавил Людовик XIV, схватив на лету ответ Вобана. – Помни всегда, Шарло, что ты шут короля. Один шут не очень много на стольких умных людей.
Но то, что при дворе не было более шутов, объясняется общим прогрессом в улучшении нравов, введением при дворе самой утонченной вежливости, развитием вкуса в выборе зрелищ и развлечений; но все же нельзя сказать, чтобы шуты и скоморохи совершенно исчезли с лица земли и что восемнадцатый век не имел о них понятия. Принцы крови и знатные люди еще сохранили привычку держать шутов и скоморохов в числе своей прислуги. Дофин, сын Людовика XIV, держал у себя шута по имени Маранзак, который в 1711 году, после смерти принца, перешел на службу к герцогине Бурбон-Конде; она так забавлялась шутками и остротами Маранзака, что предпочитала его Фенелону и Лафонтену. Граф Тулузский, сын Людовика XIV и госпожи де Монтеспан, также держал у себя шута. Еще упоминают об одном плясуне, прозванном Баллоном (Ballon – мячик), который находился при дворе Людовика XV. Ученый Грослей [71] рассказывает в своих «Mėmoires de l’Academie de Troyes», что он видел в 1758 году шута кардинала Флери: «В 1758 году я имел честь беседовать в Булонском лесу с шутом кардинала Флери, который, как и другие, также находился в придворной свите. Этот шут был одет кардиналом в красную скуфейку на голове и с круглой кардинальской шляпой в руках; верхняя одежда на нем была фиолетового цвета, а чулки красного. Он сидел верхом на богато убранном лошаке, как обыкновенно ездят кардиналы. Придворные, обращаясь к нему, говорили: “Monseigneur”. Этому человеку, уроженцу Прованса, было на вид лет шестьдесят от роду; он казался очень тупым, но в то же время и крайне спесивым…»
Наконец, если верить библиофилу Жакобу, то даже и Мария-Антуанетта ввела при дворе старинный обычай – держать шутов: «Еще несколько лет тому назад в Версальском замке жил старик, белый, как лунь, окруженный старою мебелью, старыми картинами и разными старинными вещами времен Людовика XVI; но все эти вещи ясно указывали на ту роль, какую этот старик играл при том дворе – это был шут Марии-Антуанетты. Он нам показал несколько зерен кофе, которые он получил от этой несчастной королевы, о которой он сказал:
– Я сожалею в первый раз в жизни, что у такой великой королевы такая маленькая ручка.
Версаль, покинутый королями, сохранил в своих стенах придворного шута как живую развалину исчезнувшей монархии».
Революция 1789 года унесла как и придворных шутов, так и шутов знати, вместе с другими учреждениями старого режима. Но все же революция не в силах была искоренить у человека побуждение к смеху, который так свойственен природе человека, а еще более природе француза.
У шутов явились и свои преемники. Во времена Директории одинаково жаждали развлечений и удовольствий, как и в предыдущие века. Явились карикатурные наряды, разные кривлянья, условные маскарадные костюмы и выходки золотой молодежи клуба Клиши. Маскарадные костюмы изображали типы из народа (Pantalon или Gilles) и Директории (Mizelin). Весь этот жаждущий веселья люд находил самое радушное гостеприимство у Тальена и Барраса. Появились и модные красавицы, из которых особенно была замечательна Тереза Кабаррус [72]; она часто одевалась в греческий костюм, который едва прикрывал ее наготу.
Это было самое счастливое время для шутников, забавлявших общество, для авторов, сочинявших разные шуточные рассказы; но в особенности повезло разным мистификаторам. Но, однако, изобретение подобного рода развлечений не принадлежит собственно этим людям. Еще в семнадцатом столетии поэт Сантейль [73] и некоторые из придворных аббатов восемнадцатого века прославились различными шутками; самая лучшая из них показалась бы нам теперь очень дурного вкуса. Эти традиции были возобновлены и в девятнадцатом столетии Гримо де ла Реньером и Ромье [74].