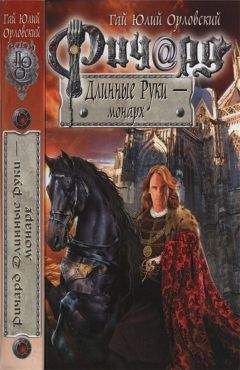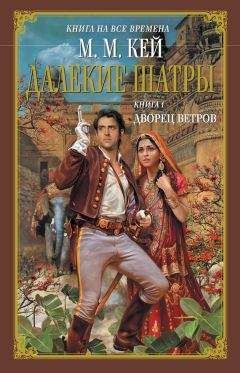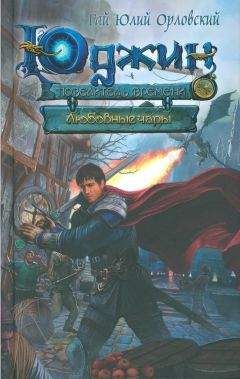— Все понятно… Надеются на богатые пожалования в Сен-Мари. И захват не принадлежащих им земель.
— Вы мудрый человек, — сказал я. — Сразу все уловили. Скажу еще, их очень много, и всех отличившихся в боях придется наградить. Да-да, землями и угодьями. Что делать, очень уж вестготцы жаждут участвовать в захвате столицы и последующей резне. Это же не их столица, чего ее жалеть?
Он побледнел, новость ударила в самое сердце, но проговорил с трудом:
— У нас сил побольше.
— Ну да, — сказал я саркастически. — Половина контролирует все дороги со стороны Тараскона и бдительно следит за армией стальграфа Мансфельда, а вторая перекрыла выход из Гандерсгейма, где сейчас уже никого нет?.. Герцог, вы все правильно сделали, вы хороший полководец!.. Но дело в том, что я старые книги читал… а учусь быстро.
Он поник, совершенно раздавлен, однако гордость рыцаря и полководца заставила выдавить с достоинством:
— Геннегау захватите, но лорды запрутся в своих замках и не сдадутся! Сопротивление будет ожесточенное.
— Вот и хорошо, — сказал я. — Вы уж постарайтесь вдохнуть в них мужество!
Он посмотрел с подозрением.
— Зачем?
— Мне выгоднее, — признался я, — чтобы они оказали, как вы говорите, сопротивление просто ожесточенное.
— Но, простите…
Я сказал ласково:
— Мы же с вами военные люди, герцог. Я не так убелен годами, как вы, но уже участвовал во множестве боев и захватов вражеских земель. Или захватывании? И знаю по опыту, как и вы, что резню можно вести только в первые пару дней, как бы в азарте боя, а потом уже нельзя, церковь запрещает.
Он поморщился.
— К чему вы это говорите?
Я объяснил, чувствую, что произношу прописные истины:
— Мне выгодно перебить как можно больше противников, а также заодно и их семьи, вроде бы невзначай, ну так получилось, это же война, лес рубят — щепки летят. Потому желательно, чтобы к моменту наступления мира все мои противники были немножко убиты. А то если потом, это уже деспотизм и тирания, чего я, как гуманист и как бы демократ, избегаю.
Его лицо постепенно каменело, кожа стала серой, как гранит, а глаза погасли.
— Ваше Величество, — произнес он, — я не могу поверить…
— Во что?
— В серьезность того, что вы сказали.
— Почему?
— Это… бесчеловечно.
Я улыбнулся как можно циничнее.
— Ваша светлость, я практичен. Во имя гуманизма и человечности мы постараемся операцию умиротворения завершить как можно скорее. При этом, конечно, пострадают и отдельные ни в чем не виновные граждане, как у нас принято говорить, хотя, между нами говоря, невиновных вообще-то нет. Все в чем-то да виновны или, как мудро изрекает церковь, слегка перегибая палку, грешны. Даже первородно грешны! В смысле, каждого можно схватить прямо на улице и бросить в тюрьму, ничего не объясняя, и каждый будет хорошо знать, что вообще-то его посадили за дело!
Он пробормотал:
— Это так, но это не повод…
Я изумился несколько театрально, но кто в такой ситуации заметит:
— Как не повод? А как же справедливость? Ее торжество?
— Господь велит быть снисходительным, — напомнил он, — даже к виновным. А к тем, чья вина не доказана…
— Все виноваты, — отрезал я. — Вы что, против церкви? Нашей матушки святой римско-католической?
Он сказал поспешно:
— Нет-нет, я ни в коем случае не ставлю под сомнение…
— Да? — спросил я с подозрением. — А то мне как-то вдруг почудилось, что ставите. И даже сомневаетесь в способности Господа различать правых и виноватых! Убивать вообще-то следует всех, а он там разберется, кто виноват, а кто сильно виноват. Потому я приветствую вашу героическую готовность сражаться до последней капли крови.
Он буркнул:
— Спасибо.
Я заверил пламенно:
— Мы чтим героев и всегда отдаем им салют при похоронах. Я, уверяю вас, вовсе не приветствую такое человечески понятное желание гуманиста и демократа наплевать на могилы врагов, а то и сплясать на холмиках над ними! Это не совсем хорошо, хотя, конечно, уступая народу, я не возражаю против таких старинных и освященных вековыми традициями обычаев. Но сам в глубине души почти совсем против.
Он смотрел в меня хмуро, все еще не веря, что я такое вот чудовище, не знает, что я еще голубь сизокрылый, не видел он настоящих ястребов войны.
— Ваше Величество, — произнес он с трудом, — благодарю вас за вино и такие изысканные угощения. Мне нужно посоветоваться с сопровождающими меня лордами… в свете новых данных.
Я поднялся, учтиво поклонился, как старшему по возрасту.
— Герцог…
Он встал, ответил таким же церемонным поклоном.
— Ваше Величество…
Альбрехт, Норберт, сэр Филипп и сэр Чарльз вышли из-за головного шатра в лагере, как только я приблизился. Альбрехт, выказывая себя самым нетерпеливым, бросил взгляд в сторону Вирланда, что пустил коня галопом в сторону их стоянки.
— Ну что?
— Пойдемте внутрь, — сказал я. — Промочим горло. С Вирландом не пришлось, больно скован, вот уж не ожидал…
Часовой внес вино и чаши, Норберт взял кувшин, отослав стража бдить и не допускать, разлил по кубкам и чашам.
— Переговоры идут трудно, — прокомментировал я, — но плодотворно. Ого, хорошее вино!
— Из Вестготии, — доложил сэр Филипп. — Результаты есть?
— Не все сразу, — ответил я. — Результат пока ноль, но подвижки есть. Как говорится в подобных случаях, высокие стороны обменялись мнениями.
Норберт спросил с недоверием:
— Подрались, что ли?
— Нет, — пояснил я, — это такая дипломатическая формула. Когда никаких результатов, то это обменялись мнениями. Можно добавить, что встреча была плодотворной и успешной.
— А в чем?
— Барон, — сказал я с досадой, — это высокая политика. Не все сразу. Ставки больно высоки! Не за корову торгуемся.
Альбрехт сказал ему с бодростью в голосе:
— Барон, вернемся к нашим баранам. А его величество такой хитрый змей, что и того Змея перехитрит, что Еву обрюхатил. Думаю, если бы его величество оказался там и в то время, он обрюхатил бы и Еву, и Змея.
Я нахмурился.
— Но-но, граф! Не приписывайте мне штучки, которыми прославился Зевс. Животные меня не интересуют, как и рыбы или птицы, а вот Лилит, если честно, интриговала… еще как интриговала. Ладно-ладно, заулыбались! Допивайте и марш работать. А я тут пока мыслить буду. Победы куются, чтоб вы знали, вовсе не на поле битвы!..
Стальграф и рейнграф дисциплинированно вскочили первыми, Норберт сказал суховато: