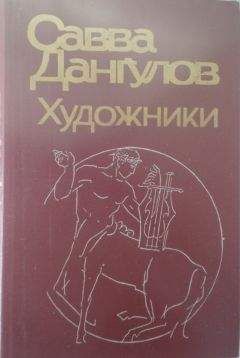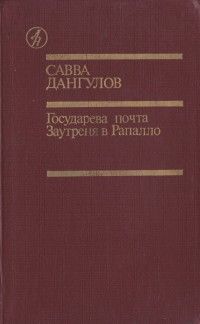Но Магомед явился в образе подполковника Гаджиева, и аварский возник с новой силой. Встреча была столь неожиданной и для всех, кто был к ней приобщен, такой радостной, что напрочь утратили смысл все вопросы, которые возникли бы при иных обстоятельствах, в частности вопрос главный: знали эти люди друг друга прежде или сегодня они встретились впервые?
Военные попросили нас выступить перед солдатами. Мы находились на том самом участке гарнизона, где был расквартирован полк. Командир полка дал понять, что если современную технику помножить на имя Гамзатова, то полк можно будет собрать минут за пятнадцать. Действительно, не прошло и четверти часа, как большой зал местного клуба был полон. Гамзатов был в ударе; как мог, я помогал ему.
— Генерал Табеев просил вас приветствовать, — произнес начштаба полка, явившийся к концу встречи. — Генерал сожалеет, что узнал о встрече поздно.
— Табеев? — вопросил Гамзатов. Только сейчас я понял, что, направляясь к военным, он надеялся встретить и генерала. — Военный человек не волен распоряжаться собой, — добавил поэт не без печали.
Наши встречи с военными продолжались, а имени генерала суждено было еще возникнуть не однажды. Впрочем, только имени, — истинно, военный человек не волен распоряжаться собой.
Минут за десять до отхода поезда я вдруг услышал в толпе провожающих аварскую речь. Я обернулся. Гамзатов говорил с генералом. Наверно, генерал был бы хорош и в черкеске, но и новая наша форма не была противопоказана генералу, — военный был роста немалого, крут в плечах. Звание генерал-полковника казалось тем более высоким, что генерал был возраста отнюдь не преклонного, больше того — он был молод. Да не под началом ли генерала-аварца находятся наши войска в Германии? — спрашивал я себя невольно. Быть может, и под началом генерала-аварца.
Гамзатов представил нас.
— Жаль, что не смог встретить вас в частях, — заметил генерал Табеев. Свобода, с которой он перешел с аварского на русский, была завидной. — Наверно, у бесед с военными читателями есть своя особенность? — полюбопытствовал он, его взгляд был пристален. — Ничто не может заменить военному человеку, тем более оказавшемуся на чужбине, книги. Нам тут все это очень заметно...
Молодой офицер, стоявший поодаль, видимо адъютант генерала, приблизился, взял под козырек: поезд отойдет на пять минут позже.
Я откланялся, и мое место занял Гамзатов — вновь возник аварский с той энергией и темпераментом, какие свойственны этому языку. Уже войдя в вагон, я взглянул на беседующих — оставшиеся минуты они использовали сполна. И хотелось думать: вон где судьбе угодно было устроить встречу двум аварцам, да каким аварцам! Захочешь придумать подобное — не придумаешь. Искали аварца-солдата, а отыскали генерал-полковника. Что тут можно сказать? Наверное, это и есть наша повседневность, скромная...
Если же говорить о том, как исконно кавказское, вошедшее в кровь и плоть горской жизни, может быть преломлено для придания своеобычной формы стихотворению, то пример тому Гамзатовские надписи. Надписи? Да не энциклопедия ли это быта горца? Надписи на дверях и воротах, на очагах, винных рогах, кинжалах и каминах, на придорожных камнях, столбах и саклях, на седлах, колыбелях, бурках, книгах и знаменах. Особо — надписи на изделиях дагестанских умельцев: кубачинских серебряных дел мастеров, балхарских гончаров, унцукульских резчиков по дереву.
Все надписи обнимает единый стиль: они от первого лица — от имени ворот, часов, кинжалов, светильников, придорожных камней. Им сообщена разговорная интонация, что характерно для Гамзатова. Они лаконичны и броски, что также свойственно гамзатовскому дарованию. Они исполнены юмора, без которого, пожалуй, нет гамзатовской поэзии.
Последнее замечание хотелось бы рассмотреть особо. Юмор является достоинством нашего жизнелюбивого века, однако юмор Гамзатова отнюдь не безвинен. У него, у этого юмора, есть свой родоначальник — Гамзат Цадаса.
И мысли мои обратились к оружью.
Которым отец побеждал многократно.
Мне гнев его нужен, мне смех его нужен.
Мне стих его нужен, простой и понятный.
Я сам слышал, как некоторые из этих двустиший врывались в разговорную речь поэта, обращенную к читателям: «И пусть откроет опять двери умеющий закрывать двери!» Или о кинжале: «Тем он страшен, тем он жуток, что не понимает шуток». Или о скалах: «Отвага на скалу взбиралась, отчаянье с нее бросалось». Но есть в надписях — да только ли в них? — нечто такое, что сын прямо унаследовал от гневной музы отца и вызвано ненавистью ко злу. И это, наверно, характерно для Гамзатова: поэт-лирик, очень сокровенный и интимный, из любовных стихов которого можно было бы собрать целую книгу, он утвердил в своих стихах сатирическое начало.
Надпись на том же кинжале:
Кинжал в руках глупца —
Нетерпелив.
Кинжал в руках мудреца —
Нетороплив.
Надпись на знаменах:
В противника вселить не могут страх
Рать без знамен, джигиты без папах.
В том же «Проклятии» своеобычная программа гамзатовской сатиры — проклятие поэта не щадит всех, кто попирает достоинство горца, будь то алчность, пустозвонство, безразличие или непочтение к старости. Кавказ — единственное в своем роде место на земле, где обрели отчий кров племена, говорящие едва ли не на полусотне языков. Тем больше права у предостережения поэта:
Мне все народы очень нравятся.
И трижды будет проклят тот,
Кто вздумает, кто попытается
Чернить какой-нибудь народ.
Но истинная сатира — это суд совести, беспощадный суд.
У Гамзатова есть несколько циклов, посвященных отцу. Это необыкновенные циклы. То, что мог Гамзатов сказать отцу, он не мог сказать никому другому. Самое сокровенное, личное.
Поэму «В горах мое сердце» можно отнести к циклам о Гамзате Цадаса условно — это поэма о Дагестане, его исторической судьбе. Но третья главка поэмы относится к Гамзату Цадаса прямо, хотя его имя там упоминается лишь однажды и речь там идет не о нем, а о Шамиле. Это исповедь сына перед отцом, да и Шамиль встает как бы в разговоре с отцом.
Снова рана давнишняя, не заживая,
Раздирает мне сердце и жалит огнем... —
начинает Гамзатов эту главу. Кем был Шамиль, нет, не только для аварцев, к которым принадлежал он, не только для Дагестана, но и для всего свободолюбивого Северного Кавказа? «Был он песнею гор. Эту песню, бывало, пела мать». А коли был песнею гор, то вряд ли его надо было сталкивать с теми, кто нес и принес свободу этим горам, — герой Кавказа, он сутью своей борьбы не противостоял российскому свободолюбию, напротив, он его утверждал, при этом и в годы ратного подвига России. «Помню, седобородый, взирая с портрета, братьев двух моих старших он в бой проводил...» Но в отношении нашей историографии к Шамилю были свои повороты, которые объяснить нелегко.
И отец мой до смерти своей незадолго
О герое поэму сложил...
Но, увы.
Был в ту пору Шамиль недостойно оболган,
Стал безвинною жертвою темной молвы.
Может, если б не это внезапное горе,
Жил бы дольше отец...
В этой исповеди Гамзатов делает признание, которое не так уж часто можно услышать от поэта:
Саблю предка, что четверть столетья в сраженьях
Неустанно разила врагов наповал.
Сбитый с толку, в мальчишеском стихотворенье
Я оружьем изменника грубо назвал.
Не просто принести повинную после того, как тобой совершено такое. Не будь ты Гамзатовым, это, пожалуй, сделать было бы многократ труднее. Однако и в этом случае признание трудно, а искупление вины того труднее. «Но ты, мой народ, прегрешения эти мне прости. Ты без памяти мною любим». Это урок совести, который многому учит, урок беспощадности к самому себе, когда речь идет о совести. Конечно, могут сказать: коли ты винишь себя в этом, имеешь ли ты право быть судьей над другими? Именно беспощадность к себе дает поэту это право.
Истинно, военный городок многосложен: в нем есть все, что должен иметь город, — и стадион, и кинотеатр, и лекционный зал, и школа.
Октябрь здесь выглядит желтоволосым. Мальчики-подростки, вооружившись граблями, сгребали опавшие листья. Они увидели Гамзатова и, точно но команде, опустили грабли.
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Голос, который мы услышали, был и тонок и чист.
— Это школа, — указал я на трехэтажное здание, окрашенное в ярко-бирюзовые тона. — Войдем?
Мы вошли, а дальше произошло чрезвычайное — очередной урок был отменен, школа собралась в актовом зале.