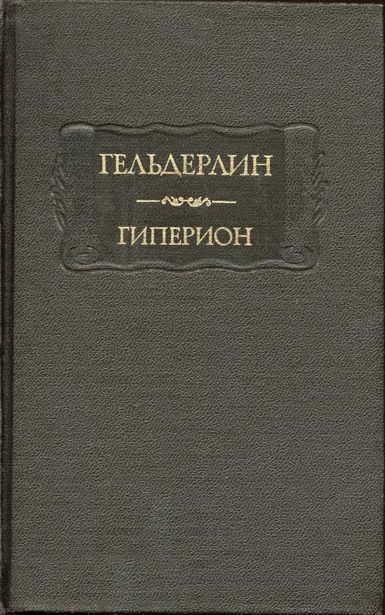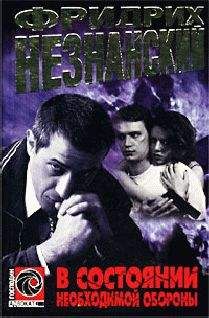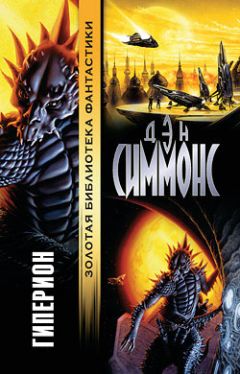утопить в нем свои непокорные, прекрасные мечты о величии и славе. Но что с того?
И часто, когда пылкое сердце увлекало меня полуночной порой в сад, под росистые деревья, когда баюкающая песня ручья, нежный ветерок и лунный свет укрощали мою душу, тогда надо мной так свободно и мирно проплывали серебряные тучки, а издалека доносился замирающий голос прибоя, — как ласково шутили тогда с моим сердцем любимые им великие призраки!
«Прощайте, небесные! — мысленно говорил я им подчас, едва надо мною зазвучит тихая мелодия рассвета. — О прекрасные мертвецы, прощайте! Хотел бы я пойти вслед за вами, хотел бы отряхнуть с себя все, чем наделило меня нынешнее столетье, и переселиться в свободное царство теней!»
Но я томлюсь в оковах и с горькой радостью хватаюсь за жалкую чашу, из которой мне дано утолять свою жажду.
Гиперион к Беллармину
Мой остров стал мне тесен с тех пор, как ушел Адамас. Много лет проскучал я на Тине. Мне захотелось повидать свет.
— Поезжай поначалу в Смирну, — сказал отец. — Изучи там военное дело и мореходство, языки просвещенных народов, их законы, взгляды, нравы и обычаи, испытай все и выбери лучшее! [67] А тогда, пожалуй, делай, что хочешь.
— Не мешает тебе поучиться терпенью! — добавила мать, и я с благодарностью принял и это напутствие.
Какой восторг испытываешь, впервые переступая порог юности! Когда я вспоминаю день своего отъезда с Тине, мне кажется, что это день моего рождения. Надо мной взошло новое солнце, и я, будто впервые, наслаждался землей, морем и воздухом.
Усердие, с которым я принялся в Смирне за учение, и достигнутые мною быстрые успехи внесли покой в мое сердце. И немало счастливых праздничных вечеров осталось у меня в памяти с той поры. Как часто гулял я под вечнозелеными деревьями на берегах Мелеса, на родине моего Гомера, собирал цветы и приносил ему жертву, бросая их в священный поток! Затем, увлекаемый безмятежными мечтами, я тут же входил в грот, где, как внушали мне мечты, пел свою Илиаду старец. И я находил его там. Все во мне замирало в его присутствии. Я раскрывал его божественную поэму, и мне казалось, что я никогда раньше не читал ее, настолько по-новому она звучала теперь во мне.
Так же охотно я вспоминаю свою прогулку в окрестностях Смирны. Это прекрасные края, и с той поры я тысячу раз мечтал обрести крылья, чтобы хоть раз в году улетать в Малую Азию.
От Сардской равнины [68] я поднялся вверх по утесам Тмола.
Я ночевал у подошвы горы в приветливой хижине, среди миртов и благовонных кустов ладанника, где передо мной в золотых волнах Пактола [69] резвились лебеди и сквозь вязы робко, словно пугливый дух, глядел на яркое сияние луны древний храм Кибелы [70]. Пять изящных колонн грустили над прахом, а у их подножья лежал повергнутый царственный портал [71].
Моя тропинка вилась в чаще цветущих кустарников, уводя наверх. С крутого откоса склонялись лепечущие деревья и осыпали мне голову своими нежными пушинками. Я вышел утром. К полудню я был на вершине горы. Я стоял, радостно глядя вдаль, впивая чистое дыхание неба. То были блаженные часы.
Передо мной, словно море [72], простиралась местность, откуда я всходил на гору, сияющая юностью, оживленная радостью; чудесная нескончаемая игра красок, то весна посылала привет моему сердцу, и, как солнце на небе вновь и вновь узнает себя в бесчисленных превращениях света, отражаемого землей, так и мой дух постигал себя в полноте жизни, которая окружала его со всех сторон, захлестывала его.
Слева низвергался сквозь леса, шумно ликуя, поток-исполин с нависшего надо мной мраморного утеса, где орел играл с орлятами, а в голубом эфире сияли снеговые вершины; справа клубились грозовые тучи над лесами Сипила [73]; я не чуял грозы, что несла их, я чувствовал лишь, как ветерок шевелит мои кудри, но я слышал гром, как слышат голос будущего, и видел вспышки зарниц, как далекий свет предчувствуемого божества. Я повернул на юг и двинулся дальше. И вот она открылась передо мной, райская страна, где протекает Каистр [74], замедляя свой путь столькими восхитительными излучинами, словно никак не может расстаться со всем этим изобилием и прелестью, которые его окружают. Легче зефиров переносилась моя душа от красот к красотам, от мирной, неведомой деревушки под самой горой до тех далей, где виднеется в дымке горная цепь Мессогина [75].
Я вернулся в Смирну, как хмельной после пира. На душе у меня было так хорошо, что я не мог не поделиться своим богатством со смертными. Я был настолько счастлив, проникшись красотой природы, что не мог не попытаться заполнить ею пустоты человеческой жизни. Моя восторженность преобразила убогую Смирну, она предстала передо мной приукрашенная, словно невеста. Мне понравились ее общительные жители. Нелепость их обычаев забавляла меня, как дурачества ребенка, и, будучи от природы чужд всяких принятых форм общения и условностей, я обратил все это для себя в игру и относился к этим вещам как к маскарадному костюму, который то надевал, то сбрасывал.
Правда, несколько сдабривали пресный вкус моих будней добрые, приветливые лица — их иногда еще посылает нам сострадательная природа, точно звезды во время затмения.
Как искренне я им радовался! С какой верой толковал эти благосклонные иероглифы! Но это дало мне не больше, чем березовый сок однажды весной: я был наслышан о его целебных свойствах и вообразил, будто изящный ствол березки содержит в себе чудесный бальзам. Но ни сил, ни бодрости у меня от него не прибыло.
И, увы, мало способно было исцелить и все остальное, что я слышал и видел!
Порой, когда я встречался с так называемыми образованными людьми, мне поистине казалось, что человеческая природа принимает многообразные обличья животного царства. Особенно распущенными и растленными были здесь, как и всюду, мужчины.
Есть звери, которые начинают выть, услышав музыку. А мои благовоспитанные ближние смеялись, когда речь заходила о духовной красоте и юности сердца. Волки уходят, если развести огонь. А эти люди, заметив хоть искру разума, как воры, кажут спину.
Если же я с похвалой отзывался о Древней Греции, они, зевая, отвечали, что, мол, и в наш век жить можно; да и тонкий вкус не совсем еще перевелся, спесиво добавлял кто-нибудь.
И они это доказывали по-своему: один отпускал остроты под стать галерному кандальнику, другой с важным видом