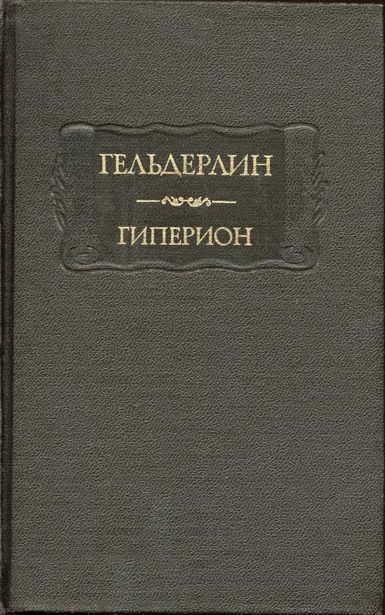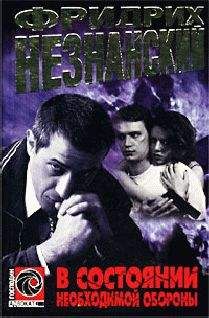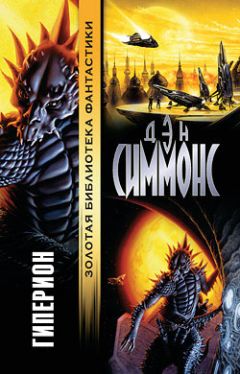свечи, или доносились звуки отдаленной музыки, а между тем в тишине время от времени раздавался глухой рокот: это, прерывисто дыша, ворочалась в своей колыбели, в эфире, грозовая туча, как спящий исполин, которому снятся страшные сны.
Наши души особенно сближало еще и то, что они помимо своей воли так долго томились в одиночестве. Мы встретились с ним, как два ручья, что катятся с гор, раскидывая землю, камни и гнилые деревья — весь застывший хаос, мешающий им проложить путь друг к другу и достичь того места, где они, увлекая все кругом и влекомые с одинаковой силой, сливаются воедино в величественной реке и начинают свой совместный путь к безбрежному морю.
Он, изгнанный судьбой и людским варварством из родного дома, вынужденный скитаться по чужим краям, смолоду узнавший горечь и отчуждение, но вопреки этому таивший в сердце жажду любви, жажду пробиться из жесткой, сковывающей его оболочки в дружественную стихию; я, от всего уже отрешившийся, одинокий и всем складом души чужой окружающим меня людям; я, чьи самые дорогие сердцу песни глумливо искажало эхо молвы; я, предмет ненависти всех слепых и убогих разумом, хоть и сам себе противен всем тем, что роднит меня с мудрецами и умниками, варварами и остряками, и вопреки этому преисполненный надежд, преисполненный ожидания лучших времен.
Как же могли эти двое юношей не броситься радостно друг другу в объятья?
О мой друг и соратник, мой Алабанда, где ты? Я почти готов поверить, что ты ушел в неведомую страну, обретя там покой, и стал снова таким, как некогда, в пору нашего детства.
Подчас, когда надо мною проносится гроза, щедро оделяя своей божественной силой леса и нивы, или когда играют друг с дружкой валы морского прибоя, или стаи орлов реют надо мной среди недоступных горных вершин, мое сердце вдруг начинает громко биться, словно Алабанда где-то неподалеку; но еще зримей, явственней, непреложней живет он в моей памяти — точь-в-точь такой, каким он когда-то предстал передо мною: страстный и суровый, грозный обличитель, бичевавший пороки своего времени. И как пробуждался тогда мой дух и какие громовые слова неумолимого правосудия находил мой язык! Наши мысли, точно посланцы Немезиды, облетали всю землю, чтобы очистить ее, пока не останется и следа от тяготеющего над ней проклятья.
Мы призывали прошлое предстать перед нашим судом, и даже великолепие гордого Рима не могло устрашить нас, и даже цветущая молодость Афин нас не подкупала.
Точно буря, которая, ликуя, безудержно несется вперед через леса и горы, вырывались на волю из наших душ гигантские замыслы: однако ж мы вовсе не создавали себе как по волшебству возникший собственный мир — ведь это недостойно мужчины — и не воображали, как неопытные юнцы, что не встретим препятствий, — у Алабанды хватало с избытком ума и отваги. Но подчас и внезапно осенившее нас вдохновение таит в себе пыл воина и прозорливость мудреца.
Один день особенно мне памятен.
Как-то мы с Алабандой пошли погулять и, непринужденно усевшись плечом к плечу в тени вечнозеленого лавра, читали вместе тот отрывок из нашего Платона [79], где он с такой поразительной проникновенностью говорит о старении и омоложении; мы отдыхали душой, любуясь немыми, безлиственными рощами и небывало прекрасной игрой облаков и солнечного света в небе, над дремлющими осенними деревьями.
Затем мы много говорили о нынешней Греции, и оба — с болью в сердце, потому что эта поруганная земля была родиной и Алабанды.
Алабанда был против обыкновения очень взволнован.
— Когда я вижу ребенка, — воскликнул он, — и думаю о том, какое постыдное и тлетворное иго он будет нести на себе, о том, что он будет прозябать, как мы, и так же искать настоящих людей, жаждать, как мы, красоты и истины, а умрет бесплодно, потому что будет одинок, как мы, что он... о люди, хватайте ваших сыновей и бросайте их из колыбели в реку, чтобы спасти хотя бы от этого позора, какой постиг вас!
— Ну что ты, Алабанда! — сказал я. — Все будет иначе.
— Отчего же? — возразил он. — Ведь герои лишились славы, мудрецы — учеников. Совершать подвиги, о которых не услышит благородный народ, — все равно что биться головой о стену, а возвышенное слово, не нашедшее отклика в возвышенном сердце, — это прелый лист, падающий в навоз. Ну что ты с этим поделаешь?
— А вот что: возьму лопату и сгребу навоз в яму, — ответил я. — Народ, в котором пример силы духа и величия не пробуждает больше ни величия, ни силы духа, не имеет ничего общего с теми, которые еще остались людьми, он потерял все свои права, и, когда этакому безвольному трупу воздают почести, словно в нем еще живет дух римлян, это пустая комедия, попросту суеверие. Ему не место здесь, этому гнилому, высохшему стволу, он отнимает свет и воздух у молодой жизни, которая созревает для нового мира.
Алабанда порывисто обнял меня и от души расцеловал.
— Брат по оружию! — воскликнул он. — Милый мой брат по оружию! О, теперь я в сто раз сильнее!
— Вот эта песня по мне, — продолжал он, и его голос, как боевой клич, заставил встрепенуться мое сердце, — больше мне ничего и не надо! Ты молвил прекрасное слово, Гиперион! Что ж это? Бог ли будет зависеть от червя? Бог, который живет внутри нас, перед которым открывается путь в бесконечность, должен неподвижно ждать, пока червь уступит ему дорогу? Нет, нет! Вас не спрашивают, хотите ли вы! Да вы никогда и не захотите сойти с дороги, рабы и варвары! Мы и не попытаемся вас исправлять, это бессмысленно! Мы только сделаем так, что вы очистите путь для победного шествия человечества. О, был бы у меня горящий факел, и я выжег бы плевелы на поле! О, если б я мог заложить заряд и взорвать гнилые пни!
— Где можно, их спокойно обходят, — заметил я. Алабанда помолчал.
— Одна моя отрада — будущее, — сказал он затем и пылко сжал мои руки. — Слава богу, мне не уготован заурядный конец. Быть счастливым на языке рабов означает мирно дремать. Быть счастливым! Да мне претят ваши речи о счастье, как безвкусная каша и жидкая похлебка! До чего же глупо и гадко все, на что вы меняете ваши лавровые венки, ваше бессмертие.
О благостное светило, ты, что без устали движешься