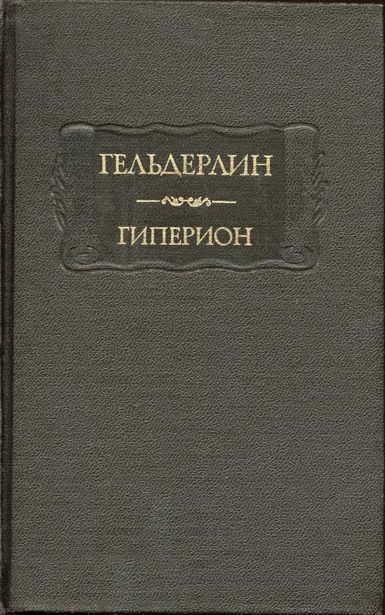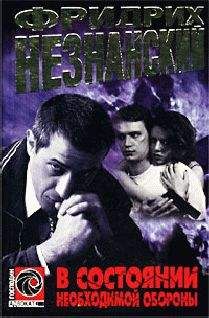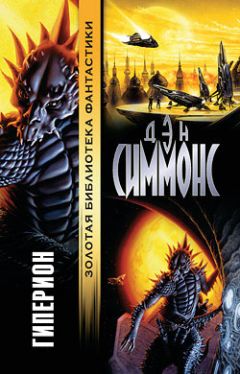читал пошлую мораль.
А иной корчил из себя просвещенного человека и, бросая вызов небесам, дерзко восклицал: «Что мне журавль в небе, дайте синицу в руки!». Однако, когда при нем упоминали о смерти, задора его как не бывало и мало-помалу он договаривался до того, что теперь духовенство у нас совсем не пользуется авторитетом, а это весьма опасно.
Единственные люди, с которыми я порой общался, были рассказчики, живые каталоги иноземных городов и стран, говорящие волшебные фонари, в которых можно увидеть монархов на конях, колокольни церквей и рынки.
Наконец мне надоело унижаться, ища виноградные лозы в пустыне, а цветы среди льдов.
Отныне я жил совершенно один, и нежный дух юности почти бесследно исчез из моей души. Неисцелимый недуг нашего столетия открылся мне из многого, о чем я тебе рассказываю и о чем не рассказываю вовсе; но мне не дано было даже прекрасного утешения — обрести в одной душе целый мир, обнять все человечество в образе друга.
Милый! Чем была бы жизнь без надежды? Искрой, вылетающей из раскаленных углей и сразу гаснущей? Или порывом ветра сумрачной осенью, который вдруг засвистит и внезапно смолкнет?
Ведь и ласточка улетает на зиму в теплые страны, ведь и зверь в полуденный зной мечется, ища глазами источник. Кто внушил ребенку, что мать не откажет ему в своей груди? Но все-таки видишь, он ее ищет.
Ничто сущее не могло бы жить, если бы оно не надеялось. Мое сердце замкнуло в себе свои сокровища, но лишь до лучших времен, во имя того Единственного, Святого и Верного, что должно было повстречаться моей алчущей душе в один из периодов ее бытия.
Сколь часто в часы, когда я это предчувствовал, предавался я этой мечте, которая кротко, подобно лунному свету, озаряла мое умиротворенное сознание! Я знал тебя уже тогда, уже тогда ты смотрела на меня, словно добрый гений с облаков, ты, что вышла однажды из мутной житейской пучины, представ предо мною в своей мирной красе! Отныне сердце мое не ведало ни борьбы, ни жгучих мук.
И, как во время затишья чуть-чуть колышется лилия, так и моя душа незаметно погружалась в свою стихию, в завораживающие мечты о тебе.
Гиперион к Беллармину
Смирна мне опостылела. Да и сердце мое постепенно охватила усталость. Правда, подчас во мне вспыхивало желание отправиться в кругосветное путешествие или на какую-нибудь войну или разыскать моего Адамаса и выжечь его духовным огнем свое уныние, но дальше желаний дело не шло, и в моей ненужной, вяло влачившейся жизни никак не наступало обновления.
Лето кончалось; я предчувствовал недалекие уже хмурые, ненастные дни, свист ветра, шумные потоки дождя, и природа, жизнь которой била раньше кипучим ключом в каждом цветке и дереве, теперь представлялась мне в моем мрачном настроении духа такой же, как я сам: чахнущей, замкнутой и ушедшей в себя.
Я хотел унести с собой, что можно, из этой угасающей жизни, спасти в себе все, что успел полюбить, ибо хорошо знал, что новая весна уже не застанет меня среди этих деревьев и гор; вот почему я совершал теперь чаще обычного прогулки то пешком, то верхом по окрестностям.
Но больше всего побуждало меня к этому тайное желание увидеть человека, которого я последнее время ежедневно встречал под деревьями у городских ворот.
Прекрасный незнакомец шагал, как молодой титан среди племени карликов, которые боязливо-восторженно взирали на его красоту, отдавая должное его силе и росту, и украдкой, словно запретным плодом, любовались римским профилем его обожженного солнцем лица; когда же настойчиво ищущий взгляд этого человека, которому, быть может, показался бы тесен весь вольный эфир, отбросив гордость, встречался вдруг с моим взглядом, то бывала чудесная минута; но мы, вспыхнув, смотрели друг на друга и шли своей дорогой.
Однажды поздно вечером я возвращался с дальней прогулки в Мимас [76]. Спешившись, я вел лошадь в поводу крутой и дикой тропинкой вниз по корням и каменьям, и, когда я пробирался сквозь кусты, передо мной открылась пещера; тут на меня напали двое караборнийских разбойников [77], и мне сперва было нелегко отражать удары двух сабель; однако разбойники, видно, где-то уже потрудились и устали, так что я все же от них отбился. Я спокойно сел в седло и стал спускаться.
У подножия горы я выехал на маленькую лужайку в самой гуще лесов, среди нагроможденья скал. Стало светлей. Луна как раз вышла из-за темных деревьев. В некотором отдалении я увидел коней, лежавших на земле, а на траве, рядом с ними, — людей.
— Кто здесь? — крикнул я.
— Да это Гиперион! — с радостным изумлением отозвался чей-то богатырский голос. — Ты меня знаешь, — продолжал он, — мы встречаемся каждый день у ворот под деревьями.
Мой конь полетел к нему как стрела. Луна ярко осветила знакомое лицо. Я спрыгнул с коня.
— Здравствуй же! — сказал добрый великан, окинул меня ласковым и смелым взглядом, и его сильная рука так крепко стиснула мою, что смысл этого рукопожатия дошел до самого моего сердца.
О, теперь моя никому не нужная жизнь обрела цель!
Алабанда [78] — так звали моего нового знакомца — рассказал мне, что на него и его слугу напали разбойники; он прогнал тех двоих, на которых я наткнулся, но заблудился в лесу и потому был вынужден переждать на том месте, где я нашел его.
— Я потерял при этом друга, — добавил он, указав на своего павшего коня.
Я отдал свою лошадь слуге Алабанды, и мы с ним пошли пешком дальше.
— Так нам и надо, — сказал я, выходя рука об руку с ним из лесу, — зачем мы столько времени медлили, избегая друг друга, пока нас не свел несчастный случай.
— А все-таки должен тебе заметить, что ты виноват больше меня, что ты холоднее, — ответил Алабанда. — Ведь я сегодня ехал вслед за тобой.
— Ты бесподобен, — воскликнул я, — но взгляни на меня! По силе любви к тебе не превзойти меня никогда.
Мы становились все радостней и откровенней.
Близ города мы заметили постоялый двор, красиво расположенный среди журчащих источников, плодовых деревьев и душистых лужаек.
Мы решили там переночевать. Долго еще сидели мы вдвоем при открытых окнах. Нас окружала величавая, торжественная тишина. Земля и море блаженно безмолвствовали, как и застывшие над нами звезды. Изредка залетал к нам в комнату морской ветерок, чуть колыша пламя