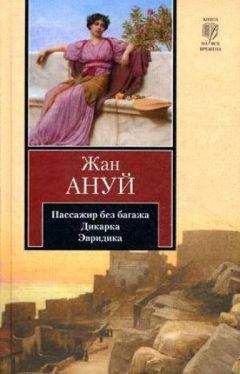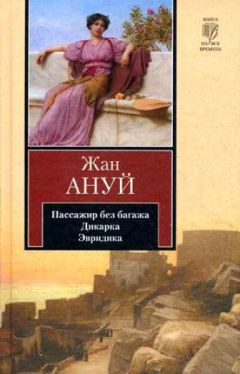Он зарывается лицом мне в грудь, и мы стоим так, не двигаясь, долго, бесконечно долго. Золотая лестница достроена, протянулась от моих ягодиц до мозга; голова пылает огнем. Того и гляди расколется надвое и выплеснет свет, точно разбитая хэллоуинская тыква.
Он распахнул на мне рубашку, груди наружу, его шелковистые волосы — повсюду, точно прохладная вода струится сквозь тьму. Золото сочится вниз по шее, зажигает каждый из влажных сосков, бьет лучом из пупка точно полуночный маяк.
— Я улетаю… — шепчу я, склонившись к самому его уху.
— Ты — полет, ты — возрождение, ты — свет. Луиза, — вздыхает он, — Луиза.
Я начинаю смеяться.
— Подлиза, сырник снизу.
Он приподнимает голову, вдыхает поглубже.
— Что?
— Детская дразнилка. Или, точнее, подростковая.
— Держу пари, — его пальцы расстегивают пуговицы ширинки на моих джинсах, — держу пари, твое сексуальное пробуждение пришло рано.
Тайное становится явным.
— Ты это понял, всего-навсего прикоснувшись ко мне?
— По тому, как ты меня засасываешь. Расставляю ноги чуть шире, давая больше простора его рукам.
— Познакомься с живым смерчем, Леке. Всю свою жизнь я была ужас какой популярной девочкой, по крайней мере в темноте. Но я могу подарить столько света…
— Я это чувствую, Луиза. Жидкий свет.
— Так пей, малыш, пей до дна.
Не вставала на «мостик» со времен восьмого класса. Закрываю глаза и чувствую, как во мне разгорается зарево, с запада на восток. Во лбу открывается глаз, из него бьют лучи света. Небось выгляжу — ни дать ни взять календарь «Харе Кришна».
Теперь смеюсь заливисто, не переставая, смех пробуждается где-то внизу живота. Леке рывком заставляет меня выпрямиться; но унять смех я не в силах, точно так же, как и свет. Он потоком изливается наружу.
Тянусь к Лексу — и хватаю воздух, тянусь снова — вроде бы поймала тот самый, укушенный палец, вот только тонкие жесткие волосы курчавятся у основания да крохотные сливы болтаются в пружинистом мешочке.
Смех обрывается. Он замирает — повсюду, кроме как у меня в руке.
— Хочешь — прекратим? — шепчет он мне.
— С какой бы стати мне этого хотеть? — громко отвечаю я.
— Некоторые девушки хотят.
— Какие такие девушки?
— Западные девушки.
— Не вижу ни одной веской причины. Вот теперь Леке абсолютно недвижим.
— Ты перестала смеяться.
— Надо же когда-то и перестать. — Теперь, когда я и впрямь перестала, я этому рада. А то вполне могла бы зайти с этим своим смехом слишком далеко и не вернуться обратно, по крайней мере не в этой жизни. Как бы то ни было, довольно с меня света. Понемногу привыкаю чувствовать его в своей руке, да и он тоже пообвыкся: хрупкий стебель и внезапно сочащийся влагой цветок.
А затем — долгое и плавное вхождение в глубину, о котором все уши прожужжали.
— Все хорошо? — Ни хрена не вижу, но знаю: он вглядывается сквозь тьму в свет моих глаз.
— Все отлично. — Обнаруживаю, что могу держать его, точно самую огромную из кукол, лучший подарок девочке, могу приподнять его при помощи рук и дырки, могу подбросить его высоко в воздух и поймать, прежде чем упадет. А при этом он такой ловкач, такой искусник, раздевает меня, обнажает, сдирает слой за слоем. Счищает с меня налипшие ракушки — и вот я остаюсь наконец гладкая, ровная, хоть сейчас на воду — готова плыть по течению.
Сезон дождей закончился. Легко догадаться: дожди уже не идут. Теперь они просто повисают в воздухе, и это называется влажность. Каждое утро я встаю, прохожу пешком три квартала до «Роусона», покупаю кварту апельсинового сока и «Силли синнамон серпрайз», возвращаюсь к себе в комнату и переодеваю рубашку, в результате сего утреннего моциона вымокшую насквозь. Собственно говоря, всякий раз, как я выхожу из номера, мои титьки, и нлечи, и поясница, и подмышки, и промежность, и задница немедленно покрываются потом. А благородные киотцы между тем скользят мимо меня по тротуару, и ни капли испарины не оскверняет их немнущихся серо-бежевых льняных костюмов: они настолько привычны плавать в набухшем супе, что он не касается и не пятнает безупречных тел и неотсыревших душ.
По уик-эндам уроков нет; после того как горничная заглянет и удостоверится, что футон аккуратно свернут и лежит в шкафу, я вытаскиваю его обратно и расстилаю на татами. Многим и в голову не придет завалиться подремать утречком, а по мне так просто кайф. Позавтракаю, почитаю какого-нибудь Джима Томпсона[39] — целую стопку купила по сниженной цене в магазине английской книги-и прикорну на часок. Глядишь, день быстрее пройдет, что всегда приятно, плюс возникает иллюзия «нового старта», хотя нынче утром, с трудом выдираясь из второго сна, все никак не протру толком глаза. Серые сумерки и внутри, и снаружи, как свернувшееся молоко. В окно задувает Бетерок, напоенный сладким ароматом вишни, напоминая, что гостиница стоит по ветру от густо дезодорированного писсуара на берегу канала, где облегчаются престарелые таксисты — прям как скаковые лошади.
Фиг с ним, с ленчем, фиг с ним, с обедом; при мысли о суши «на вынос» у себя в номере или об одинокой вылазке в ресторан противно делается. Обнаруживаю, что чем дольше здесь живу, тем меньше еды мне требуется. После определенного предела голод, точно так же, как многие другие составляющие моей прежней жизни в Бробдингнеге, начинает казаться вульгарным. Вот сброшу еще плюс-минус сотню фунтов, и назначат меня почетной япошкой.
К десяти вечера не в силах ни минуты более выносить этой тесной комнатенки, провонявшей гниющими татами. От «Убийцы внутри меня» я при первом прочтении чуть животики не надорвала со смеху, а теперь вдруг роман показался на порядок мрачнее, ведь убийца, затаившийся внутри книги, — двойник моего собственного.
Выхожу в узкую полоску лунного света. Листва деревьев вдоль по Сиракава-дори отливает стальным блеском. Надо отдать должное этой дыре: потрясный город для прогулок, что правда, то правда. Преступностью здесь, похоже, и не пахнет, и даже насилуют нечасто — по крайней мере не великанш из Канады. Одиноких мужчин в ночи этакое привидение-громадина скорее удивляет, нежели чего другое. Те, что в группах, скорее хихикают и отворачиваются. На прошлой неделе бродила я по кварталу развлечений, где ночью всегда дрожит зеленый неоновый отсвет, просачиваясь сквозь ивы, что насажены вдоль каналов, и вдруг осознала, что пялятся на меня куда больше, нежели принято пялиться на одинокую девицу-гайдзинку в настолько туристской части города. Оглядываюсь через плечо — четверо совершенно спекшихся парнишек-японцев шествуют за мной цепочкой и старательно и — увы мне! — точно передразнивают мою походку: плечи сгорблены, задница колыхается, стопы чуть вывернуты внутрь — со всеми этими особенностями меня давным-давно ознакомили орды мучителей-подростков.
Большинство мужчин в Киото склонны вообще меня игнорировать, словно я — неприступная вершина, каковая одним этим оскорбляет японскую мужественность: да закройте вы на нее глаза, как, скажем, на насилие над «женщинами для утех» в Нанкине и Корее[40], и оно само куда-нибудь да денется. Вообще-то я могу лишь догадываться, что все так, я про японских мужчин ничегошеньки не знаю. Предполагаю, что по Лексу судить бесполезно. (До сих пор от него — ни слуху ни духу, хотя тут ничего удивительного — если допустить, что записки, оставляемые для меня в «Клубничном коржике», идут дальше горничной; в конце концов, его талон на обед — Митци.)
Но если Леке за настоящего мужчину-японца не считается, тогда кто же? Есть хмурые личности в подземке, есть торговцы рыбой в резиновых сапогах, что, выйдя спозаранку на промысел, оставляют следы в виде влажно мерцающих полуоткрытых устриц на цементном полу. Есть цыкающие зубом таксисты, что кипятятся про себя, если багажа слишком много или если адрес назван неточно. Менеджеры среднего звена повсюду одни и те же, что здесь, что в любой другой точке мира, и кому какое дело, чем они живы? Вихляющие бедрами девятнадцатилетки, чьи волосы стильно спадают на один глаз, ночами рыщут стаями по десять-двенадцать, и несет от них одеколоном «Ральф Лоран Поло», биг-маками и засохшей блевотиной. Проблема в том, что сложно вычислить, кого именно здесь считают за мужчину, что здесь ценится как мужественность. Может, и здесь в точности как дома, где мужчина — это все, что движется, если хрен при нем.
Давеча вечером в киношку сходила — на настоящий японский фильмец, безо всяких английских субтитров, просто так пошла, ни с того ни с сего. На афишу купилась — улыбающийся песик рядом с железнодорожным полотном. Я разве не рассказывала, как люблю собак? И фильмы про них? И вот сижу в полутемном зале, семичасовой сеанс. Я-то ждала, что понабьются орущие сопляки, а вместо этого меня окружают мужчины средних лет, все в деловых костюмах и все беспрерывно курят. Свет меркнет, прокручивают несколько рекламных роликов и сообщений государственных служб: «Покупайте шоколадную соломку «Поки»! В ней столько Жизни!» _ и что делать, если приключится Большое Землетрясение; потом минут двадцать анонсов, и всё фильмы (или, может, это один весь из себя пламенный фильм) про автогонки или скорее про автокрушения.