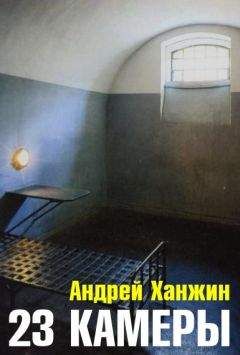Если один бетонный коровник поставить на другой бетонный коровник, а внутреннее пространство разбить закрытыми перегородками на отсеки, то получится точная архитектурная копия здания штрафного изолятора зоны общего режима под названием Бор. Вообще, нет карикатурнее и в то же время свирепее места, чем лагерь общего режима. Практически вся основная масса за колючей проволокой находится впервые, поэтому каждый барак пытается установить собственное толкование тюремно-лагерных понятий, развившихся из кровопролитного противостояния пятидесятых годов между ворами и суками. Естественно, что между семнадцатью мнениями, включая туберкулезное отделение, возникали постоянные недопонимания, перерастающие во взаимные обвинения, доходящие до поножовщины. Конечно, делились не по происхождению, а по принадлежности к тому или иному населенному пункту, по землячествам, то есть, и отстаивали не столько каторжанские права, сколько желание существовать в быту по понятиям принятым, например, в деревне Верхняя Хава. Половина зоны считали себя блатными.
Уж не знаю почему, всех так называемых блатных именовали в том лагере «шуриками». Беспредел был откровеннейший. Посылки от родственников или продукты из местного ларька, получаемые мужиками — работягами, отбирались немедленно, а воспротивившихся отдавать избивали толпой. Хлебные пайки в столовой продавались за деньги, и, нонсенс, — на перевыполняющей производственный план зоне, была непрекращающаяся голодуха. Жрали только мародеры. Доходило до того, что менты, заходившие в барак для шмона, воровали из тумбочек какие-то продуктовые крохи и тут же поедали украденное… Однако, такое положение вещей вполне устраивало лагерное руководство. Всякий, кто пытался взять ситуацию под контроль изнутри, я имею в виду настоящих уголовных авторитетов, немедленно отправлялся в Елецкую крытую, зачастую с прибавлением двух-трех лет к уже существующему сроку, за дезорганизацию… Понятно, что порядочный человек, в таком лагере, мог встретиться исключительно в одной из камер довольно вместительного карцера. И то, что этот карцер был всегда переполнен, служило небольшим утешением исчезающей вере в людей.
Исходя из количества спальных мест на отстегивающихся от стены нарах, каждая камера ШИЗО была рассчитана на четырех человек. На деле же, особенно летом, меньше десяти — двенадцати мне не встречалось. Пол, стены и потолок, — все было цементным. Параша также была зацементирована в углу, и только рукомойник с подведенной холодной водой был единственным спасением в этой тошной духотище. Остается только добавить, что в те времена, помещенных в ШИЗО, кормили через день — день «летный», день «пролетный». В летный день выдавали корку хлеба толщиной в три спички, и миску мутной горячей воды, где иногда можно было поймать огрызок кислого капустного листа. В пролетный день выдавалась кружка пустого кипятка и все. По существующему тогда закону, администрация могла продлять пребывание человека в таких условиях до шестидесяти суток без выхода. Например, за отказ от работы. В камеру бросали моток капроновых нитей и челнок для плетения овощных сеток… К вечеру требовали установленную норму выработки. И еще: вшей не было.
Когда тебе восемнадцать лет, смерти не существует. Есть только крайне тесное жизненное пространство и дикие казацкие мечты!.. Будущего нет и задумываться не о чем, все дается слишком легко. А голод… его нельзя вспомнить. Его можно только почувствовать. Шестьдесят суток прошли, как шестьдесят минут. Осталась только злость.
Девять дней в жилой зоне. Отказ от работы. Еще сорок пять суток без выхода. Все то же самое.
Откуда в человеке такое мучительное желание повелевать и повиноваться… Может быть это зов той древней животной крови, которая замешивалась веками на всевозможных племенных религиях и приобрела, в конце концов, ту самую уродливую форму государственного устройства, при которой все люди делятся на управляющих и управляемых. Да и вообще, государство это не столько форма, сколько содержание… Как вера в бога, — существует только для тех, кто об этом самом боге когда-то услышал… Понятно почему организованные в государство римляне так боялись сплоченных в кровную общину варваров. И так же понятно почему варвары во все времена были и будут сильнее шахматистов… Гегель поставил диагноз всему человечеству — война, бесконечная война всех против всех, каждого против каждого, и только в таком состоянии человеческий род способен совершенствоваться в сторону идеального… Значит, государство всегда право в своем стремлении подчинять, а его послушный гражданин, повинуясь, действует в интересах всего человечества. И тот, кто не усвоил это положение в организованных группах детского сада, продолжает постигать науку смирения в тюрьме. И если тюрьма не научит ходить строем и в заданном направлении, то государство избавит общество от безумца, выстрелом, петлей, электричеством или камерой пожизненного заключения. Что и требовалось доказать. В волчьей стае свободы больше, чем в разумном человеческом обществе!
А несознательные… Несознательные — безумцы или умственно отсталые — копошатся в переполненных камерах штрафного изолятора, гоняя по откачанным канализационным трубам капроновых «коней», в надежде вытянуть оттуда немного махорки, которую привязывают к выловленным «коням» на первом этаже в БУРе, где табак не является запрещенным предметом.
Удивительно, в этот раз мне дали всего лишь пятнадцать…
Ничего удивительного. Эти пятнадцать суток были даны через, так называемый, матрас. «Через матрас» означает, что человека выпускают из карцера на одну ночь в жилую зону, где он спит на кровати застеленной матрасом, как все остальные, вписавшиеся в бытие, а утром его снова отправляют в карцер. Делается это для того, чтобы соблюсти видимость законности действий. Больше шестидесяти суток без выхода продлять нельзя… Ну вот и выход, — через матрас. Можно сначала шестьдесят, а потом пятнадцать, а можно наоборот. Потом пару недель в жилой зоне… Трупы все же не приветствовались… Хотя и случались с регулярностью. В общем, у меня получилось сначала пятнадцать, а теперь вот еще шестьдесят. Приближалась зима.
Вот пишу о тех днях, а внутри меня, не знаю, в душе что ли, такое чувство, будто кто-то, холодной рукой, взял и выключил во мне свет. Нет никакого переживания ник самому себе, ни к тем, кто был в то время рядом. Возраст безразличия…
Однажды в нашу камеру занесли полуживого татарина. Занесли, в прямом смысле слова, под руки, потому что сам он, после полутора месяцев изоляции, передвигаться почти не мог. Сутки он отлеживался, а на следующий день рассказал свою краткую историю, из которой выяснилось, что татарин этот сидит за изнасилование дочери прокурора Лисичанского района Воронежской области. В общем, с его слов выходило, что он как раз и есть жертва драматической любви, что никакого изнасилования, конечно, не было, просто отец — прокурор таким кардинальным способом вмешался в судьбу дочери, а дочь испугалась отцовского гнева и дала в суде обвинительные показания на несчастного возлюбленного… Татарин утверждал, что прокурор не успокоился тем, что упаковал его в длительную отсидку, но и позаботился о том, чтобы из тюрьмы он вышел, в лучшем случае, инвалидом, а в идеале — не вышел бы вовсе. Зеки посмеивались над этой невероятной историей, предполагая, что все было не совсем так… Но два факта были подтвержденными: у Лисичанского прокурора действительно была дочь, а татарин на самом деле был доведен до крайней степени истощения, к тому же многочисленные кровоподтеки по всему телу говорили о том, что его не только не кормили, но еще и регулярно избивали, пока он находился в одиночной камере. Вообще, подозреваю, что в нашу камеру его забросили с единственным умыслом: дождаться его скорой смерти, — больше недели он бы все равно не протянул в таком состоянии, — и обвинить в этом его сокамерников, то есть нас девятерых… Зеки, звери, забили насильника… Ведут же правоохранители среди мирного населения свою легавую пропаганду о том, что за некоторые статьи в зоне и убить могут. Это, чтобы население было готово к некоторым трупам. Татарин тоже об этом догадывался, в следствие чего вынашивал план членовредительства с последующим попаданием в межобластную тюремную больницу, где надеялся отлежаться и набраться сил для выживания. Повредить он решил собственную руку. А именно, — сломать ее. Для этого нужен был помощник. Татарин выбрал меня, хотя в камере были более крупные и более сильные мужчины. Видимо, предсмертный татарин приобрел способность улавливать тонкие психические волны, отвечающие за моральную готовность помочь ближнему своему…