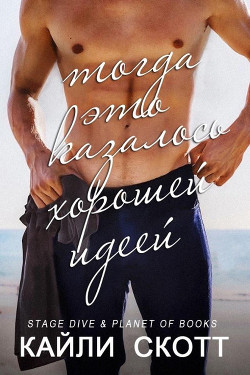моего давний корешок, – на что Гриша слабо усмехнулся, и от неожиданного смешка всё тело его свело судорогой.
– Ч-ч-ч-ё, пацаны, в-в-веселитесь?
– Ну, веселимся, – продолжал отвечать за нас Рыжий.
– Оно и п-по-онятно… – протянул Гриша, – дело м-мо-молодое. Я тоже в-в-веселился. Но сейчас не д-д-д-до ве-ве-еселья, – его опять скрутило, – сейчас д-д-ду-думаешь, как бы прожить, п-п-протянуть ещё хотя б-б-бы полгод-ди-дика… Или п-по-по-дохнуть быстрее, – он снова усмехнулся, и его согнуло пополам.
– А что? – только и спросил Ваня.
– Н-н-наркотики. Б-б-брат. Н-наркотики. Я знаю, вы м-м-молодые. Веселитесь. Думаете, что в-весело будет в-всегда. И, дай бог, оно т-так и б-бу-будет. Дай бог, оно н-не случится, как со м-м-мной. Да я сам в-в-виноват… Х-х-хотя… мы ж-ж-ж не знали, как оно б-б-бывает…А вы теперь можете на нас п-по-посмотреть, знаете к-как и не по-по-вторите… – он говорил всё это через боль, еле выговаривая слова, приходилось напрягать слух, чтобы понять его бубнёж.
– А чё с тобой? – бестактно перебил его Ваня.
Левый молча наклонился вперёд, точно его сейчас стошнит, и обессиленными руками, едва поддающимися его воле, медленно задрал штанину своих старых заляпанных пятнами брюк. То, что мы увидели, ещё долго яркой картинкой стояло у меня перед глазами. Всю голень и часть икры, начиная от колена и вниз, покрывала огромная гниющая рана, кишащая мелкими белыми червями. От увиденного меня чуть не стошнило, я резко начал сглатывать и часто моргать, отгоняя образ, оставшийся на месте опущенной обратно штанины.
– В-в-от, – сказал Левый, слабо улыбнувшись. – В-в-вот оно как б-б-бывает. Я скоро умру, наверное, и хорошо бы. Я уж-ж-е устал. Б-б-ольно очень, – он откинулся в угол, глухо стукнувшись боком затылка о стекло, но совершенно этого не заметив. Казалось, он резко заснул, тело его опало, расслабилось, но через несколько секунд его снова свело так, что Левый распахнул глаза и застонал.
Мы как сидели в оцепенении, так и не смогли встать до самой нашей остановки, потупив взгляд в пол. После очередной конвульсии Левый будто бы и правда заснул, а может, просто закрыл глаза – веки его подрагивали и было непонятно, от бодрствования это или от постоянных судорог.
Как потом сказал Рыжий, Левым его прозвали ещё в те годы, когда он был многообещающим футболистом, по всему району ходила слава о его знаменитом ударе левой ногой в девятку. Времена поменялись, и спортсмены оказались не востребованными. Те, кто не пошёл в криминал или охрану, в большинстве своём спились или снаркоманились. Злая шутка судьбы заключалась в том, что именно левая нога у него начала потом гнить. Как он так долго протянул – одному богу известно, колоться Левый начал ещё со старшим братом Рыжего.
Безобразная рана долго ещё мучила меня, всплывая перед глазами явным очертанием на фоне чёрного потолка, когда я пытался заснуть лёжа на спине, но мысли, как назло, особенно остервенело рвались в мою голову. «Вот ведь засада! – заключил я однажды во время одной из подобных бессонных ночей; мне наконец удалось отогнать от себя навязчивый образ, вызывающий вполне реальную тошноту, – никогда не знаешь, кто был до тебя на этих бл*тских сиденьях!» На этом связный поток сознания оборвался, и я начал проваливаться в сон, блуждая меж запутанных деталей прошедшего дня.
Первый Новый Год
Осень плавно переросла в зиму, снег падал и таял, падал и таял. Ртутный столбик неуверенно колебался между минусом и плюсом, сводя горожан с ума. Изо дня в день метеорологи ошибались на один-два градуса в пользу тепла, и ошибки эти вызывали неистовое раздражение, которое вряд ли бы случилось, ошибись они точно так же летом. Зимой же подобная оплошность означала, что на следующий день вновь будет таять только что навалившееся на землю покрывало, растекаясь под ногами чёрной жижей, а небо будет ныть и стонать мелким холодным дождём и заунывным непрекращающимся ветром. Вряд ли возможно представить в природе что-то более выматывающее, чем начало и конец московской зимы.
Да… Москва совершенно невыносима в ноябре и марте. Зачастую эти месяцы захватывают с собой близлежащие – октябрь, декабрь, февраль и апрель. Получается, что совершенно невыносимо тут по полгода, а вот другие полгода ты просто терпишь прохладу, радуясь тому, что не мёрзнут руки. Исключение составляет лишь удивительно удушливое, непонятно как забредшее в эту промозглую гавань тепло длиною в 6–8 недель. Главное – перетерпеть, дождаться. И получается, что ты всегда что-то терпишь и чего-то ждёшь. В ноябре, например, мы ждали декабря, потому что в декабре – Новый год. В декабре мы предвкушали и готовились. А что будет дальше – нас совершенно не волновало. Главным маяком надежды была наша знатная новогодняя туса в загородном доме Асиных родителей, которые улетали в Альпы кататься на лыжах.
Ася с Марго были девочками совсем другого сорта, другого общественного класса, нежели пацаны, семьи которых, в большинстве своём, жили если и небедно, то ужимисто. Многие воспитывались матерями, обычными работящими российскими женщинами, влачившими на своих плечах безрадостный быт. Ярмо обязанностей тяготило их годами, отчего провисала их грудь, подбородки, мешки под глазами, опадал и рыхлел нос, серела кожа, горбились плечи. Одинокие женщины, пытавшиеся дать что-то своим единственным сыновьям, объектам их всеобъемлющей (и оттого развращающей) любви.
Учителя, врачи, бухгалтеры, кассиры, билетёры – все те, чьи уставшие лица мы видим по ту сторону бюрократических затворок. Все те, от которых нас всегда отделяет банковское пуленепробиваемое стекло, плавно ползущая лента в супермаркете, стол в приёмной, окошко регистратуры. Хамоватые, громкие… или тихие и незаметные. Не по годам постаревшие.
Они сильно отличались, например, от Асиной мамы, которую знали и любили все пацаны. Успешная, стройная, современная – она держалась на равных, молодилась, громко смеялась, курила тонкие сигареты, учила детей плеваться. Порой вульгарна, ну и пусть, за то честно и свободно. Губы в яркой помаде раскрывались в европейской приветственной улыбке, обнажая красивые жемчужные зубы. Пусть неестественно, но всё же красиво. Такая же кудрявая рыжая копна волос, что и у дочери. Пусть поредевшая, но всё равно притягивающая взгляды. Смотря на эту женщину, хотелось жениться на Аське, не боясь того, что ждёт тебя через четверть века. Пусть это были лишь мечты, но как же приятно было в них верить.
Доставшийся России в наследство пережиток социализма уравнивал людей так, что в одном районе, в одной школе, в одном доме, в одном подъезде жила семья, которая могла позволить себе путешествия, дорогие вещи, машины, обучение детей в Европе, а в соседнем – семья, едва сводившая концы с концами. Кто-то жил в старой двушке впятером с попугаем и котом, а кто-то покупал пятую квартиру, сдавая четыре других.
Мы не мерили людей материальным