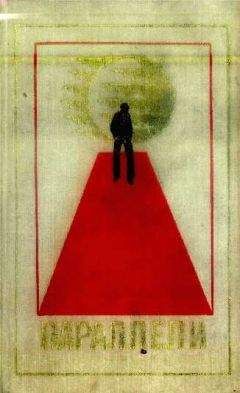В последнее время, когда появлялся Белинский, Краевский не только вставал со своего кресла, но часто шел к нему навстречу через весь кабинет. Правда, он делал это преимущественно в тех случаях, когда не было лишних свидетелей.
– Рад, всегда рад побеседовать с вами без помехи, любезнейший Виссарион Григорьевич! Читал вашу рецензию на учебник Лоренца, читал, восхищался и долго размышлял.
– Не секрет, о чем?
– Да какие же могут быть между нами секреты!
Андрей Александрович от полноты дружественных чувств сам подвинул кресло посетителю.
– Мастер вы, сударь мой, дать всестороннее, можно сказать, научное освещение любому предмету. Восхищаюсь и завидую… – Андрей Александрович, помолчав, решился перейти к делу. – Восхищаюсь, но за долг считаю поделиться с вами некоторыми сомнениями. Будьте милостивы, развейте их, коли я не прав.
– Пора бы нам, Андрей Александрович, не пугаться хоть собственной-то тени…
– Тени? – перебил Краевский, ужаснувшись. – У меня, почтеннейший, мальчики кровавые в глазах. Одним словом, уваровские молодцы…
– Неужто опять запретили?
– Ни-ни! Но могут, Виссарион Григорьевич, запретить. Ведь могут же?
– И мне и вам пора бы к тому привыкнуть. Однако объяснитесь, Андрей Александрович!
– Извольте, извольте, всепочтеннейший Виссарион Григорьевич! – Краевский взял статью и, ища нужное место, продолжал: – Слов нет, ученая рецензия. И предмет ее не вызывает сомнения: учебное руководство. Насчет нашего исторического века очень дельно у вас сказано, ну и прочее, разумеется… А вот дошли вы до мрачного духа сомнения и отрицания и далее изволите писать, что сей дух играет в движении жизни великую роль, «отрывая отдельные лица и целые массы от непосредственных и привычных положений и стремя их к новым и сознательным убеждениям…» А если заинтересуется цензура или кто-нибудь повыше, о каких таких новых и сознательных убеждениях пишут «Отечественные записки»?.. Подписи-то вашей под статьей, по положению, не будет, – стало быть, вся редакция в ответе?
– Сколько раз я говорил вам, Андрей Александрович, что несу ответственность за каждое сказанное мною слово! Анонимность рецензий стеснительна для меня и, как сами говорите, становится опасной для редакции.
– Да не о том сейчас, батенька, речь! Иносказание ваше таит опасность.
– Но не могу же я при цензуре нашей без иносказания написать, что под новыми сознательными убеждениями подразумеваю стремление к социальному перевороту!
– Так и знал! Так вот и знал, что не только не развеете, но углубите мои опасения. – Краевский жалобно вздохнул. – Сколько раз просил вас – оставьте вы эти бредни при себе…
– Читатели наши думают иначе, – быстро отвечал Белинский. – Это вы сами знаете, Андрей Александрович, хотя бы по справкам об увеличении подписки. Пора бы и нам с вами прекратить эти разговоры раз и навсегда. Вам принадлежит право избирать сотрудников, при мне всегда останутся мои убеждения.
Краевский промолчал.
– «…свет победит тьму, – снова стал читать он из рецензии плаксивым тоном, который создавал комический контраст с уверенно бодрым тоном статьи, – разум победит предрассудки, свободное сознание сделает людей братьями по духу, и – будет новая земля и новое небо…» Да-с! – крякнул он и снял ученую свою шапочку. – Неужто же нельзя хотя бы без этого обновления земли и неба обойтись? Согласитесь, тут уж прямо революцией отдает и черт его знает чем еще!
– Буду счастлив, если именно так поймут меня читатели.
– Но если угодите вы в Петропавловскую крепость или в Сибирь, не я буду виноват! – вскричал, теряя терпение, редактор «Отечественных записок».
Неблагодарный сотрудник не ценил сердечной о нем заботы!
Поразмыслив, Андрей Александрович, однако, отправил рецензию в типографию. И то сказать – чего не сделаешь в угоду подписчикам! Это было тем легче сделать, что цензура наверняка оставит без внимания ученую статью на ученую книгу.
Андрей Александрович снова надел черную шелковую шапочку и по обыкновению углубился в рукописи.
Зал заседания Государственного Совета был переполнен. Вешнее солнце, заглянув в огромные окна, робко играло на позолоте люстр и пышном шитье мундиров. Первые сановники России ожидали прибытия императора.
Всеобщее движение встретило его, когда он вошел в зал своим обычным чеканным шагом. Николай Павлович окинул собравшихся озабоченным взором, ответил на приветствия величественным склонением головы и, заняв место, дал знак к началу заседания.
Государственному Совету предстояло высказать мнение по законопроекту об обязанных крестьянах.
Все было давно предрешено. Но самое присутствие монарха свидетельствовало о том исключительном значении, которое придает он намеченному преобразованию. Благоговейная тишина воцарилась в зале, когда его величество обратился с речью к совету.
Николай Павлович не имел склонности к словоговорению. На этот раз он говорил долго.
Император ни словом не обмолвился насчет пресловутой идеи освобождения. Он не называл эту идею безумием, как скажет в последующие годы. Августейший оратор изъяснил побудительные причины, приведшие к задуманной реформе. Как отец отечества и первый дворянин, он выразил твердую уверенность в том, что преуспеяние России неотделимо от прав и преимуществ, которые предоставлены первенствующему сословию – оплоту престола и порядка. Возвысив голос, император объявил, что новый закон пресечет всякие неустройства. Наконец он обратился к доброй воле землевладельцев, искони радеющих о пользах государства. Каждый из них по собственному усмотрению будет решать, воспользоваться или не воспользоваться ему дарованными преимуществами.
В этом, собственно, и заключался смысл всей речи. Надо было рассеять последние тревоги помещиков. Через Государственный Совет Николай Павлович обращался ко всему русскому дворянству.
Воодушевленные царственным словом, господа члены Государственного Совета закончили заседание выражением верноподданнических чувств. В едином порыве устремились они к обожаемому монарху. Вешнее солнце осветило еще раз историческую картину.
Вслед за императорской каретой от Государственного Совета бесконечной вереницей разъезжались экипажи. Зал заседаний опустел. Только в кабинете председателя еще задержались наиболее близкие к нему сановники.
– Слава богу, все осталось по-старому! – вырвалось у одного из них.
– Однако к чему же было городить весь этот огород? – спросил другой, обратившись к князю Меншикову, председательствовавшему в заседании.
– Надо было что-нибудь сделать, – устало отвечал князь, – дабы рассеять тревожные опасения дворянства и пресечь мечтания, пробудившиеся в народе…
В начале апреля 1842 года высочайший указ был опубликован для всеобщего сведения под витиеватым названием: «О предоставлении помещикам заключать с крестьянами договоры на отдачу им участков земли в пользование за условные повинности, с принятием крестьянами, заключившими договор, названия обязанных крестьян».
Высочайший указ сопровождался циркуляром министра внутренних дел. Во избежание ложных истолкований министр еще раз объяснил: «Единственная цель правительства – упорядочить право помещичьей собственности на крестьянские земли». Далее министр в весьма туманных фразах требовал от подчиненных пристального наблюдения за тем, чтобы никто и ни в каком случае не пытался усмотреть в высочайшем указе целей или намерений, не соответствующих видам правительства.
Указ об обязанных крестьянах спешно разослали по всем губерниям. Помещики не проявили доброй воли. Придется лежать указу в полном забвении не одно десятилетие. А прогремит гром, вздыбятся против бар мужики, заполыхают господские усадьбы – лишь тогда о нем вспомнят. Вспомнят, что давным-давно провозглашена помещичья собственность на все земли, и, приступая к освобождению крепостных, начнут с того, что установят – и, конечно, по собственной доброй воле – выкупные платежи за каждую болотину, за каждый песчаник, отводимый в надел осчастливленному мужику.
Но и до этого было еще далеко.
Пока что господа помещики желают жить по старине. С крепостными мужиками надежнее существовать, чем с какими-то обязанными. Пусть себе мудрят в столице – там, известно, образованность, – но, спасибо, нет отказа поместным дворянам в воинских командах…
В те самые дни, когда в Петербурге появился новый закон, в московской типографии начали набирать первые страницы «Мертвых душ».
Не было никакой видимой связи между этими событиями. Да и какая может быть связь? В Петербурге заседал Государственный Совет, раздалось царственное слово – прямо сказать, мудрость и торжество, достойные удивления потомства. А в московскую типографию всего-то навсего приехал сочинитель, собою невидный, с птичьим носом, отдал печатать книгу в долг, на бумаге, тоже добытой в кредит. И даже нельзя всю книгу печатать: какая-то повесть о капитане Копейкине только что переделана сочинителем и снова послана в петербургскую цензуру. Одним словом, нестоящее дело.