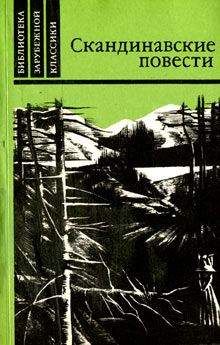— И первым я спрашиваю тебя, староста. Пойдешь ли ты на барщину? Покоришься ли своему господину?
Они всем миром порешили не ходить на барщину. Все односельчане дали клятву и твердо стоят на том. Но ведь фохт уже знает про это. Помнится, староста ему об этом сказал. Только слова его как об стенку горох. Зачем без толку повторять одно и то же? Этим он только прогневит фохта. Неразумно досаждать фохту и идти ему наперекор. Ведь он уже ясно сказал: на крестьянах Брендеболя нет барщинной повинности. Какой прок повторять это еще раз?
Не успел он схватить со стены мушкет и топор. Но он может сбегать за рогом и созвать общину. У Клевена пятеро со шпагами и пистолями, а брендебольских двенадцать с мушкетами и топорами. Оружие-то у них похуже, но ведь двенадцать как-никак больше, чем пять. Уж верно, двенадцать выстоят против пятерых. Надо скорей в дом, затрубить тревогу.
Но выстрел из пистоля может опередить старосту. От выстрела и умереть недолго. Мало ли людей пистоль уложил на месте? Тяжко идти на смерть. Всякий, кто может, старается не навлекать на себя погибель. Сам бог был свидетелем клятвы у колодца, только если за это приходится жизнь положить, то позабудешь о клятвах да обещаниях.
А фохт Клевена продолжает: его милость господин обер-майор вскорости отбывает в Стокгольм, где на Ивана Купалу созывается сословный собор[16], но перед отъездом он заявляет Брендеболь своим владением и берет крестьян под свою руку; они должны немедля идти на барщину; помещик дал наказ, чтобы строптивцев и ослушников принудили силой.
— Слышишь? Силой! — И фохт похлопал себя по поясу.
Но, испив вволю пива, Ларс Борре заметно подобрел. Он ободряюще улыбается Йону Стонге, хотя и не снимает руки с пистоля. Остатки пивной пены пузырятся на его бороде. От широкой ухмылки борода разделяется надвое, и между раздвинувшихся губ обнажаются почерневшие зубы, редкие, точно зубья сломанных грабель.
Ларс Борре считает себя человеком миролюбивым и добросердечным. Он сперва прибегает к уговорам, а уж потом берется за пистоль. Хотя без пистоля, правда, тоже не обойтись. Когда ему приходится иметь дело со строптивыми крестьянами, он чаще пускает в ход доброе слово, чем кулаки. Первым делом пытается уговорить их, чтобы они покорились по своей воле. Он хочет, чтобы они работали с охотой, без принуждения. Так будет выгоднее ему и его господину. Запуганный и забитый крестьянин — никудышний работник. Да и какая ему, фохту, радость тиранить крестьян? Куда лучше обойтись без этого. Не станет он без особой нужды мучить людей. Он не изверг какой-нибудь и рад бывает, когда не приходится прибегать к силе.
Так думает о себе фохт Клевена. Но он таит свой кроткий нрав от крестьян. Пусть не забирают себе в голову, что он человек покладистый и уступчивый. Потакать ослушникам он не станет. Но тем охотнее говорит он о великом милосердии своего господина. Вот и теперь он дружески рассказывает Йону Стонге про своего хозяина. Кто-кто, а уж фохт-то все знает доподлинно.
Его милость господин обер-майор Клевен — хозяин добрый и справедливый, он не желает зла своим холопам. Он хочет жить с крестьянами в добром согласии. С таким помещиком крестьяне никогда не будут терпеть несправедливостей. Смирному его бояться нечего. Господин Клевен желает лишь одного — чтобы в его владениях настали мир и покой. Он хочет, чтобы все его крестьяне жили в своих домах в мире да тиши и были за своим господином как за каменной стеной. Во всех деревнях, что он взял под свою руку, царят порядок, мир и послушание. И теперь он желает, чтобы крестьяне Брендеболя также жили в мире да тиши. Он равно желает добра всем своим крестьянам. Он не требует от них ничего, кроме покорности и послушания. Но уж одного он требует неукоснительно: все его наказы и повеления должны выполняться, иначе никакого мира быть не может.
— А смутьянов мы живо угомоним! — При этих словах фохт несколько возвышает голос. Но затем речь его снова звучит тихо и благожелательно, точно он шепчется с лучшим другом. И когда фохт Клевена, понижая голос, продолжает свой рассказ, кажется, что он поверяет Йону из Брендеболя какую-то тайну.
Ходят слухи, говорит он, будто господни Клевен рядом с новыми барскими покоями приказал выстроить в Убеторпе застенок, где будут пороть крестьян. Это ложные слухи. В этом поместье не строят ни застенка, ни холодной, ни подземелья. У его милости господина Клевена до сих пор не было надобности в таких помещениях. Здесь, в приходе, нет строптивых крестьян, которых нужно было бы пороть плетьми. Так на что ему застенок? Но у помещика, кроме Убеторпа, есть и другие усадьбы. В линнерюдском поместье Скугснес есть и застенок, и холодная. Они были построены еще при господине Улофе Строле[17], прежнем владельце. А вот теперь, когда крестьяне Брендеболя не явились на барщину, господин Клевен сказал Ларсу: «Как видно, и мне придется строить застенок. Его построят брендебольские крестьяне. Пусть-ка постараются для себя!».
Борре громко смеется, обнажая редкие верхние зубы, похожие на зубья сломанных грабель. Затем он снова подносит кружку ко рту и пьет.
Старосте становится невтерпеж, он спешит за угол помочиться. Он идет скорчившись, его бьет дрожь, точно он долго лежал на холодной земле и простыл. Это, видно, утренний озноб одолевает его. Надо бы зайти в дом, надеть армяк. Но он не идет в горницу и не трубит в рог.
Однако Борре поведал еще не все тайны Йону из Брендеболя. Пиво развязало фохту язык, и он снова подзывает к себе старосту.
Прежде хозяином у него был Улоф Строле из Экны, что владел Убеторпом до господина Клевена. Если крестьяне у него отказывались от барщины, их приглашали бесплатно прокатиться верхом. Но лошадку им давали тощую — ни мяса, ни костей, потому что была она сделана из дерева. В усадьбе Экна к ногам крестьянина привязывали железную болванку, а хребет у кобылы был острый, что лезвие ножа. Не больно-то удобно было седоку в этом седле. От такой езды крестьянин долго ходил враскорячку, с ободранным задом. Но уж зато тот, кто хоть раз прокатился на деревянной кобылке, впредь не отказывался от барщины; он долго хромал и походил на птицу с подбитыми крыльями.
Был у господина Строле в Экне и застенок. Там непокорных крестьян охаживали по спине ореховыми прутьями так, что кожа у них висела, точно спутанная пряжа из длинных красных ниток. На спине у них живого места не оставалось, и лежали они на скамье, будто освежеванные телячьи туши. А как спустят с крестьян шкуру, то кидают их в большие чаны с рассолом. Соль въедается в раны. Мокли они в чанах не один день, сохранялись в соли хорошо, не портились, ничего им не делалось. Но те, кому спускали шкуру и кого солили в чанах, после до того покладистыми делались, что дальше некуда. Такие они были смирные да послушные, что не то чтобы на барщину не пойти, а со всех ног кидались любое приказание выполнять, помани их только пальцем. Вот так-то и установили в этих усадьбах мир и покой. А мир — это божья благодать.
Но не прискорбно ли, спрашивает Ларс Борре, что бедняги сами навлекают на себя такие мучения? Не горько ли, что они не слушают дружеских советов? Не обидно ли, что они сами, по своей воле, затевают смуту и своими руками разрушают свое благоденствие?
Йон из Брендеболя, как видно, согласен с фохтом, во всяком случае — не прекословит. Он, верно, слышит участие в голосе фохта, понимает, что тот желает ему только добра. Фохт беседует с ним доверительно, точна с лучшим другом:
— Ты человек рассудительный, Стонге! Ты самый уважаемый человек и округе. Так неужто же ты хочешь стать смутьяном?
Это, верно, утренний озноб одолевает его, думает староста. Приступы озноба накатывают на него один за другим, и он начинает дрожать всем телом. Когда человека одолевает утренний озноб, дрожь пробирает его до самого нутра. Ему не у кого спросить совета, а тут еще холод проникает до мозга костей.
Теперь староста уже понял, что не пойдет он за рогом и не станет сзывать общину.
Ларс Борре осушает кружку и закрывает ее крышкой. Пиво пришлось ему по вкусу, он смачно отрыгивает.
— Господин Клевен не собирался строить застенок в своем поместье Убеторп. Зачем же крестьянам вынуждать его к этому? Почтенные землепашцы Брендеболя должны бога благодарить за добросердечного и милостивого господина и не вынуждать помещика на такие меры.
А ведь есть и иные способы! Фохт снова показывает на пояс. Хороший способ — зажать пальцы строптивцу в пистольные замки. Такой способ был в ходу у юнкера Ульфсакса[18] из Усабю, где Борре служил в молодости. Крестьянину зажимают пальцы в замок и отпускают его на все четыре стороны. Ступай себе куда знаешь. Но он не находит себе покоя ни днем, ни ночью. Просто диву даешься, до чего неуемным становится человек с пистольными замками на пальцах. Бегает он без устали взад и вперед и не знает отдыха. А если не образумится через два дня, пальцы ему прикручивают чуть покрепче. И на другой же день смутьян является к помещику и смиренно молит, чтобы с него сняли пистольные замки. Он обещает вперед быть во всем покорным своему господину, и те, кто видит его раздавленные, набухшие кровью пальцы, нисколько этому не дивятся… Только к чему навлекать на себя такие муки? Отчего бы не жить в ладу с помещиком? Что может быть лучше мира?