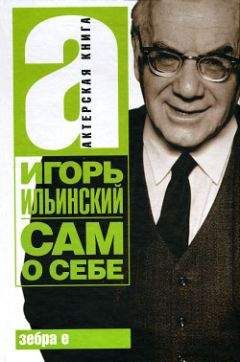избит. Будучи после подавления мятежа найден солдатами, несчастный полностью утратил разум от перенесенных побоев и вскоре умер. Здесь я вынужден прервать свою речь, ибо нет возможности судить, судьба которого из братьев оказалась более горестной.
Кто крикнул: «Пойдем шукать епископа!» – никогда не узнали. Кто донес, кто только мог донести, что чудом спасшийся из Кремля преосвященный схоронился в Донском монастыре и боится даже шагу оттуда ступить – тоже не узнали и никогда не узнают. А ведь были, были ненавистники, без ненавистников ни одно дурное дело не делается, а у нас – и хорошее. Но почему зажглись, почему пошли и убили – да как убили! – можно, мнится мне, очень даже догадаться.
Не за суровость или какое нечестие, а потому, что другим на их богопротивность указывал. А что, убивая, кричали слова язвительные – так грешник всегда грехи свои переносит на обличителя. Обыкновенно это – приписать другому собственную вину и его же за нее покарать сердечно и ревностно. Другое дело, что не нашлось спасителей, бросили, чего скрывать, монахи пастыря на растерзание. Видать, и вправду слишком суров был. Впрочем, бывает, и суровое начальство любят, в лепешку ради него расшибаются. А здесь – наоборот, спасайся, кто может, моя хата с краю. Никакой любви христианской, живота за други своя. От страха ли, нежелания ли – тяжело судить, но ох, кажется, что было нежелание. Слишком уж легко все произошло, как по-накатанному.
Так что считайте меня клеветником, считайте недоумком, считайте собственной родины презирателем, клеймите Гаврилыча позорным презрением, а пожив в нашей земле довольно, не могу не сказать: свои. Нет, что свои убили, и без меня ежу понятно, нет – свои мысль таковую в глубине души уже давно носили, свои тем раздором воспользовались, свои путь толпе указали. И не месили ли то варево присные самого архиепископа, те, кто знал, что он – в монастыре, а вовсе не у помощника градоначальникова, вблизи Калужской заставы, к кому поперед всего сунулся, но не пустил его чиновная душа в дом, больным сказался.
И думается мне сейчас, грешному, не свои ли, в радости потирая руки, отсоветовали преосвященному дальше бежать, уговорили, что, не ровен час, перехватят за городом, в монастыре-то сохраннее. И, не сговариваясь, дали знать кому нужно, чуть не случайно обмолвились, ненароком в ладошки хлопнули и понес ветер весть смертную. А потом вовремя в сторону отошли и, когда дело дурное делалось, не то что рядом – близко не стояли.
Так страшного добились и не замарались, и никто, даже самое допытливое следствие о том не разберет, ни одной бумаги не останется. Ни свидетеля нет, ни памяти у пьяных убийц ни малейшей. И будут они на дыбе подвешены, и покаются – ох, есть, в чем, но никого не назовут – а никого, почитай, не было, только голоса из толпы и порыв безумный, да снизошедшее на всех знание куда идти, кого на куски рвать. И казнят их прилюдно, но истинные сообщники того злодейства, его замыслители и наводчики рядом болтаться не будут. Останется от них один только след – воспоминание о той записке, что, говорят, повешена была на монастырских воротах: «И память его погибе с шумом». Свои написали.
Не верил Еремей, до самого конца не верил, своими глазами видел, и все равно никак поверить не мог. Уже казалось, позади самое страшное, развеет следующий день помрачение человеческое. Вчера вечером, на счастье, не добрался он до Чудова, столкнулся в переулке еще с двумя такими же молодыми послушниками, рассказали они, что в Кремле творится. И постепенно стало ясно: некуда бежать, разве только в Донской, в нем и чумных-то нет. Хоть ранен был и слаб Еремей, а вдруг главным из троих оказался и повел их за Девичье поле, дорогой, не очень им самим знаемой, избегая мест чересчур людных. И добрались к глубокой ночи, достучались до сторожей, впустили их, пусть не без опаски, опросив подробно и факел сквозь щель просунув, чтобы осветили себя, показали без обмана. С облегченным сердцем забылся Еремей: думал, все, спаслись.
Нет, рассеялось утро и стало ясно, что по-прежнему царит в городе лихо. Не отваживался никто за ворота выйти, только суматошно бегали по стенам монахи, словно при набеге татарском, и поглядывали в старинные бойницы. Вопль страшный доносился со стороны северной да виден был поднимавшийся от Кремля дым. В растерянности ходил по двору преосвященный: «И он тут, – подумал Еремей, – словно в осаде». Не решался никто подойти к нему, спросить, посоветовать. Молчали, ждали – и, как давеча в Чудовом, начали разбегаться. По одному, втихаря. Словно знали: к полудню усилился шум, развернулся во многие голоса. Все равно стояли последние монахи, не двигались. Приближалась толпа, неминуемо приближалась, но не было ни у кого ни сил, ни духа, ни разума. Как пригвожденные застыли они, молились. Тут под ударами затряслись, задрожали ворота и еще страшней задрожали руки архиепископа, бросился он, вдруг спохватившись, под церковные врата. Покатилась по ступеням архиерейская митра. И забегали все, как муравьи, Еремей бросился вслед за преосвященным, успел увидеть, как тот рвет с себя дорогую рясу, прямо перед образами, как ищет непослушными пальцами рукава засаленного кафтана – а чего ж не раньше-то? Кричали на дворе знакомым предсмертным людским криком. Перекрестился Еремей, снова готов он был. Только на преосвященного с трясущейся бородой смотреть не мог, повернулся и скорее пошел вон из храма Божьего.
Быстро сбили ворота, да не защищал их никто, не держал людей, не увещевал. Как оцепенели все, увидев толпу красноглазую в сотни воздетых рук, хриплые рты, распаленные губы. А другие попрятались – спасайся, кто может. Выбежал Еремей во двор, а там уже полно всякого сброда, почти до единого пьяные, потные, багроволицые. Ужель се народ московский, сызмальства знакомый? Или напала на город незнаемая орда? Да не хуже ль это самой орды?
У многих в руках ножи да дубье разное, прямо перед Еремеем огрели по голове старого служку монастырского, который кого-то укорять вздумал – ничком упал бедный, едва шевелится, а его – еще и еще кольями, пока не затих. Брызги в сторону – мозг да сукровица. И главное, не вступался никто за безвинных, глухая тишина наступила в монастыре, даже не тишина – безголосие, прерываемое поступью размашистых шагов, шумом плотных ударов да ярым уханьем многих глоток. Исчезли вдруг слова, только самые односложные звуки вытекали из утроб человеческих. Нет, слышались и слова: «Погодь!» да «Постой!» или «Дай-ка мне!» – и еще: «Матерь Божья!» – и протяжное, как не взаправду, «по-ми-ло-серд…»
Слышал,