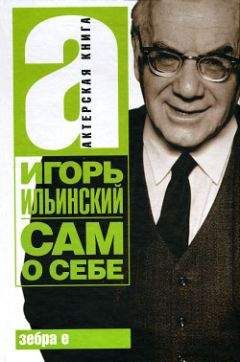комическую оперу.
Сообщу также новость, которая несомненно доставит вам удовольствие: мои войска пробились через Перекопскую линию и вступили в Крым, и я с минуты на минуту ожидаю известий о сдаче главной крепости и капитуляции самого султана».
133. Не за страх, а за совесть
И вдруг затихло все, как после бури или метели немалой. Выйдешь в город – благодать пустотная, успокоение. Солдаты повсюду, караулы блюдут, пароли знают. И приморозило кстати, народ печи растапливать стал (пришлось закрыть глаза на приказ высокий), потянуло отовсюду дымком, так по-нашему, по-домашнему. Мотаешься туда-сюда, то в Кремль на допросы, то в Марьину рощу, где давеча злоумышленники напали на похоронную команду, что из преступников охраняемых составлена была, то в губернское управление – в который раз списки мертвецов перелопатить, и как-то благостно на душе, не то, что раньше. До бунта чувствовали, или казалось так, что чувствовали: не миновать нам грозы Господней, а как грянула она и прошла, то иные недуги прямо на глазах уполовинились. И ведь немного только укоротились листы смертные, а и то здорово. Что похоронная команда разбежалась, так им же хуже: поймают – заклеймят и в кандалы навечно. Кто утаивать больных будет – под арест и в карантин. Ради их же собственной выгоды. Объясняли им, говорили – не верили, придется теперь по-другому. Пожестче, без слюнтяйства, мягкость – вон до чего доводит.
Совсем сомнения утратились, легче стало. Возвещаешь о карантине, и знаешь – все правильно, никаких послаблений и поправок против государева указа. Мол, донесшие о заразе среди собственной семьи могут оставаться под охраной у себя дома, а скрывшие ее будут под конвоем доставлены в известные места. И солдаты уже никого не слушают, медлить не желают. Кончилось у них сочувствие к московскому обывателю.
Вся работа регулярная вернулась на круги своя. Нет губернатора – и не надо. Генерал-поручик не мешает – и ладно, помогает – куда лучше. Хоть у него с бунтовщиками забот полон рот: следствие ведет, рапорт ежедневный строчит на высочайшее имя. Сами мы себе теперь командиры. Пишем, ездим, надзираем, перевозим, пересылаем, переносим, объявляем, запрещаем и учитываем. Без страхов и понуканий. Хотелось бы еще немного денег, да не себе, народу раздать. Народу деньги очень теперь нужны. Для спокойствия.
И не успел я об этом подумать – государственная у тебя голова, Василий, – шумом полнится улица, факелы полощутся вдали, лошади проскакали, снег вздыбили, фельдъегерь в дверь: встречайте, приехало новое начальство, грозное и высокое, выше уже почти некуда. Одно хорошо – солдат в городе сразу стало видимо-невидимо. Правда, и без них уже успокоилось, улеглось, замирилось. Наш народ, он долго смертоубивству предаваться не может. Есть в нем все-таки испокон века дух благостный, христианский.
Ушел, ушел Дорофей от жестокой погони, свернул с проезжей дороги в лес по тропе еле видной, и как меж деревьев проскочил, сам не знал. То ли лесорубы ходили здесь по дрова, то ли люди болотные за торфяником – лежали поперек гиблых мест сучья, не давали колесам завязнуть. Помогла Пречистая, вынесла исхлестанная кляча. Лежал Дорофей посреди мокрого мха, не мог отдышаться. Потом встал, огляделся. Ободрались тюки, истрепались, но цело было добро хозяйское. А почему хозяйское? Кто спас, тот и прав. Все равно пути назад нет, кончилась его служба. Надо так: сначала переночевать, голод в обозленном желудке смирив, а как рассветет, выбраться обратно на дорогу, да на первом проселке в сторону, и еще в сторону, подалее от здешних мест и от столичных городов. За одну штуку сукна такого любой трактирщик досыта накормит и еще вдогонку немалую торбу уложит. В ближайшем городе сбыть товар поскорее, больших денег не спрашивая, но и не продешевив. А потом можно податься в теплые земли, только не спеша – там пока война идет, да говорят, скоро кончится. Найти где-нибудь солдатку безмужнюю, помочь по хозяйству, ну и прочее, вот так зиму и пересидеть. Ничего, сообразим как-нибудь.
Вот только голова у Дорофея кружилась, даже почитай, болела, да и в брюхе мало того, что было пусто, а еще и саднило в самом низу, с обеих сторон, прямо как от какой вши злой, особливо прожорливой.
Так запомнил Еремей: пуста была Москва в те дни, только все больше становилось на улице солдат. Кучками стояли они на перекрестках, грелись у костров. Даже ночью не исчезали караулы, но никого не задирали, паролей не спрашивали. И еще заметил: реже стали попадаться ему дроги похоронные. Теперь Еремей как бы при городской управе состоял. И не спросили его, кто да каков да откуда, да почему лицо словно мелом испачканное – эка невидаль! – и что за шрам на лице – мало ли у нас щербатых да увечных! Хочешь работать – милости просим, прокормим, обогреем и переночевать тоже дадим.
Тогда, в Донском, очнулся Еремей от холода. Незадолго до рассвета, в самый час между собакой и волком, и понял, что короста у него на лице – кровь засохшая. Знать, ранен он. И голова раскалывается, и спина саднит, а лечь обратно нельзя: только хуже будет, если в тепло не попасть. Знал Еремей, к доктору ему сейчас нужно, на перевязку, и раны чтобы промыли все, загнить не дали. С трудом добрел до ворот, а там легче пошло. И не обернулся: шея зажатая всему телу только зараз разрешала поворачиваться, не иначе, да и колени не совсем слушались, проседали чуток. Только и сил, чтобы прямо и под гору.
Не было шума вокруг, лишь ветер колюче посвистывал да малая собачонка вдалеке тявкала. Сбежали все, кого еще ноги носили, и целые, и избитые-поломанные. Кто спасся из них, никогда не узнал Еремей. Из раненых – должно быть, вовсе мало. Боялись в больницы-то идти, может, правильно, что боялись. Рана, она милостью Божьей зажить сумеет, зараза же никого не милует. Или сдуру страшились они, с перепугу? Сам слышал, говорили духовные, даже в монастыре, перед разорением: если кто заболел, так его в гошпитале сразу заживо в землю закапывают. Это, Еремей твердо знал, вранье, не бывало такого ни в карантине, ни в санитарных командах, а уж он там всякого навидался, на четыре жизни. Но вот тоже не заспорил отчего-то, не побежал за сказавшим, не дернул его за рясу – мол, постой, отчитайся за свои слова глупые! Знал Еремей, хребтом знал, не будет ему ответа, а только испуг да злоба, и не выйдет он из этого спора правым.
Нет, наверно, зря не пошла по врачам израненная братия: чисто было в