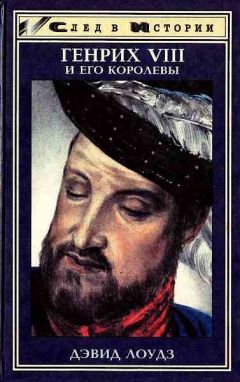— Она подумывает о доне Карлосе, — сказал Сесил.
Елизавета ударила по столику рукой и облокотилась на него; её глаза прищурились.
— Сыне и наследнике Филиппа Испанского! Слабоумном садисте, сумасшествие которого признает даже его собственная семья. Но она готова пойти на брак с ним, причём с радостью! Потому что его приданым будет испанский флот и испанские армии! Это многое о ней говорит. Клянусь нашим Спасителем, при мысли об этом человеке меня начинает тошнить — а уж я-то не брезглива, когда речь заходит о нуждах государства. Но Мария — другое дело; ей не претит ни он, ни шведский король, который и в самом деле безумен... Она пустила бы к себе под одеяло хоть обезьяну, если бы это помогло ей отобрать у меня английскую корону.
— Испанский король не допустит этого брака, — напомнил ей Сесил. — Он понимает, что это означает войну с нами. Другие тоже видят эту опасность; в случае необходимости мы можем без обиняков разъяснить это и самой шотландской королеве.
— Мы продвигаемся вперёд слишком быстро, Сесил, — пожаловалась Елизавета. — У меня от этого голова разболелась. Сейчас нам требуется осторожность; чрезвычайная осторожность, пока мы не увидим, каковы будут её дальнейшие шаги. Ей известно, что я её враг, а мне известно, что она — мой. Через Рандольфа мы отправим ей любезное послание, а я намекну, что нам с ней следовало бы встретиться и уладить наши споры по-родственному. Она на это не согласится, а если согласится, я уклонюсь от такой встречи. Мы сядем за доску, милый мой Сесил, и начнём двигать пешки, но не ранее, чем последует её ход.
На этом аудиенция закончилась; Сесил знал — сколько бы он ни возражал, королева приняла решение о своём политическом курсе на ближайшее время и ничто не в силах изменить этого решения. Когда он возвращался в свои покои, ему пришло в голову, что её любимое слово — «осторожность». Это не женское слово, которое указывает на привычку всё тщательно заранее взвешивать; оно странно звучит в устах дочери Генриха VIII и порывистой, переменчивой Анны Болейн.
Однако у Елизаветы было много общего с её хитрым и коварным дедом, родоначальником королевской династии Тюдоров. Она сравнила надвигающуюся битву за свой трон с шахматной игрой, и Сесил понимал: она будет вести свою игру против Марии Стюарт с тем же холодным расчётом, который помогал ей выигрывать все партии в шахматы. Любой недовольный англичанин-католик, — а благодаря составленному Сесилом закону о престолонаследии таких насчитывались тысячи, — любой мелкий дворянчик, затаивший обиду, наконец, любой родовитый пэр, чьи амбиции королева не пожелала удовлетворить, — у всех них теперь появился готовый предводитель для мятежа, пусть даже этот мятеж ещё и не начался. При всей своей ненависти к Марии Стюарт, одним из оснований для которой была ненавистная Сесилу религия, при всём том, что он делал вид, будто не ставит её ни в грош, он ничего не знал о ней как о личности. Она могла оказаться своевольной дурой и не продержаться в Шотландии и нескольких месяцев или слабой женщиной, способной только на бессильные угрозы; наконец, она могла быть преисполнена честолюбивых замыслов, как и полагала Елизавета. На этот вопрос способно ответить одно лишь время; а время, как часто говорила Елизавета, было ей в прошлом добрым другом. Сесил поручил одному из своих секретарей написать черновик письма послу в Шотландии Рандольфу с приказанием демонстрировать дружелюбие новой шотландской королеве и её сторонникам в Эдинбурге.
В Англии всё было тихо; вместо ожидавшегося конфликта между Елизаветой и шотландской королевой последовал обмен любезными письмами, к английскому двору в качестве шотландского посланника прибыл тот самый Мэйтленд Летингтон, которого Сесил в беседе со своей королевой называл змеем, а в ответ послом в Шотландию был направлен Рандольф. Оба захваченных корабля с личными вещами Марии Стюарт были возвращены в целости и сохранности, и Елизавета предложила ей встретиться в Йорке. Её письма были просто блестящими; исполненные достоинства и в то же время убедительные, они выражали искреннюю надежду на то, что две королевы смогут достичь договорённости, которая укрепит положение Марии на троне; Елизавета провозгласит её своей преемницей на тот случай, если умрёт бездетной, что должно снять единственную причину для вражды и подозрений между ними.
В Шотландии обстановка была куда менее спокойной. Граф Арран ворвался с шайкой вооружённых людей в часовню королевы во время мессы, и её сводному брату лорду Джеймсу со слугами пришлось обнажить шпаги и заставить их удалиться. Графа Босуэлла, преданного сторонника Марии, пришлось выслать из Эдинбурга, чтобы успокоить других лордов и лишить его возможности отомстить Аррану и другим за нанесённые оскорбления, развязав на улицах столицы кровавую межклановую резню.
К угрюмому лорду Джеймсу, снедаемому завистью к королевскому сану своей красавицы сестры, Марии Стюарт приходилось подлащиваться, чтобы успокоить его подозрения и побудить его к защите королевы; ярый ненавистник папистов епископ Джон Нокс, который провозглашал со своей кафедры о наступивших временах блудниц и Иезавелей, в ответ получал лишь вежливое приглашение явиться во дворец Холируд для дачи объяснений, хотя Мария мечтала о том, чтобы заточить его в темницу.
В эти первые месяцы в Шотландии вспыльчивая и неосторожная девица, которая во Франции была так невоздержанна на язык и столь уверенна в своей способности очаровать любого врага, проявила потрясающую выдержку перед лицом непрерывных вмешательств в её королевские прерогативы и личную жизнь. На заседаниях государственного совета она сидела тихо, вышивая и слушая, как её сводный брат лорд Джеймс и другие лорды принимают за неё решения. Оставшись одна, Мария часто плакала, но на публике она всегда была кроткой, умеренной и терпеливой, хотя и не казалась при этом слабой. Единственным её оружием было обаяние; несмотря на свою молодость и неопытность, она поняла это и пользовалась этим оружием с максимальной эффективностью. Для окружавших её загрубелых и жестоких людей она была чем-то необычным, и это так же было ей на руку. Они не понимали её, но природная проницательность не позволяла им вовсе её игнорировать. Постепенно она начала завоёвывать некоторых из них на свою сторону и сумела снискать восхищение народа. Хотя Нокс и реформаторы запугивали свою паству гонениями со стороны католиков, которым покровительствует идолопоклонница-королева, Мария сделала всё от неё зависящее, чтобы продемонстрировать свою терпимость к религии, которую она ненавидела и которая объявила её собственной вере войну не на жизнь, а на смерть. В Шотландии не сжигали еретиков, не принималось никаких законов, которые бы ограничили тираническую власть местной протестантской церкви и её пресвитеров, а о вторжении французских войск, которые бы научили еретиков-шотландцев почитать свою королеву, и речи не было. Хотя верой, акцентом и воспитанием Мария Стюарт отличалась от своих подданных, она ездила среди них верхом в костюме шотландской горянки, танцевала их танцы и ела их пищу; словом, старалась продемонстрировать, что в главном она такая же, как они. Несмотря на неодобрение Нокса и других, которые придирались ко всему, что бы она ни делала, постепенно при дворе Марии Стюарт стали воцаряться изысканность и просвещение. Вокруг неё собирались музыканты и поэты; в мрачных залах Холируда зашумели весёлые балы, его стены украсились роскошными гобеленами и шелками из Франции, а угрюмых шотландских лордов в нём принимала милостивая красавица королева, которая очень старалась показать, что ценит их всех одинаково. В стране царил мир, если не считать вспышек насилия в городках на границе с Англией и стычек между враждующими кланами в столице; если они начинали разрастаться во что-то более серьёзное, их подавляли войска королевы при содействии горожан. Казалось, в королевстве начинают укореняться законность, а анархия отступает, и это получило поддержку у всех, кроме разве что самых завзятых разбойников. Популярность королевы во всех слоях общества росла, и поэтому оскорблять её веру и привычки стало менее безопасно.
Её репутация, как и репутация её фрейлин, была выше всяких подозрений; королева Мария и прислуживавшие ей четыре Марии, дочери самых родовитых шотландских дворян, следили за этим с особой тщательностью. Особенно нравилось шотландцам сравнивать это благонравие с безобразными скандалами, слухи о которых доносились до них из Англии; там самозваную королеву Елизавету, именовавшую себя «королевой-девственницей», окружали фавориты и льстецы, причём самому гнусному из них, пресловутому Дадли, она позволяла во время одевания входить в свою спальню и подавать себе сорочку.
Исповедовавшая католическую веру королева пуританской Шотландии подавила в себе любовь к нарядной одежде и облачалась в скромные бархатные платья, закрытые до самой шеи, в то время как в Англии Елизавета принялась всё больше и больше открывать взорам мужчин свою девственную грудь. Если англичане любили Елизавету за то, что она появлялась среди них разодетая в пух и прах, осыпанная драгоценностями, нарумяненная и с завитыми волосами, уложенными в высокую причёску, шотландцы гордились сдержанной и скромной наружностью своей государыни. В Европе теперь оказалось две королевы-соперницы, и хотя Мария была слабее, она была моложе и отличалась более крепким здоровьем. Ей было всего девятнадцать лет, её доброе имя было незапятнанно, и она с полным основанием претендовала на трон, на котором сидела женщина десятью годами старше, отличавшаяся сомнительной репутацией и, как считалось, слабым здоровьем. Тот, кто женился бы на Марии, вполне мог оказаться королём как Англии, так и Шотландии. Мария была разочарована, когда её встреча с Елизаветой, которую та всё время оттягивала, была в конце концов отложена на неопределённый срок. Она сгорала от любопытства увидеть женщину, которая писала ей такие дружеские письма и при этом, по словам Босуэлла и её брата Джеймса, отличалась змеиной хитростью и не заслуживала доверия. В душе Мария Стюарт считала Елизавету вульгарной особой и извиняла её небезупречный вкус тем, что её мать была авантюристкой из торгового сословия. Что до нравственного облика английской королевы, Мария считала это её личным делом, хотя и сожалела, что она так демонстративно выставляет напоказ свою распущенность. Заверения в тёплых чувствах, которые выражала Елизавета в письмах к ней, вполне могли быть искренними; осмелев, Мария уже думала, что в их основе лежит страх, и была готова проявить великодушие и подождать, пока Елизавета умрёт от какой-нибудь из часто мучивших её болезней, а лишь потом заявить о своих правах на английский трон. Такая недальновидность объяснялась гордостью и уверенностью в том, что хитрости не дано восторжествовать над знатным происхождением. Тем не менее она передалась шотландским дворянам, и они тоже размечтались, завистливо поглядывая на соседей: покорение Англии сулило богатую добычу, о размерах которой они могли судить по набегам на приграничные английские селения; кроме того, возможно, с помощью Марии, которая была для них лишь средством достижения этой цели, удастся отомстить за поражения в ожесточённых англо-шотландских войнах. Шотландское дворянство любило свою королеву, потому что она отлично ездила верхом и была, по-видимому, сильной духом женщиной; они повиновались ей потому, что она этого просила, но только в тех вопросах, где это им ничего не стоило.