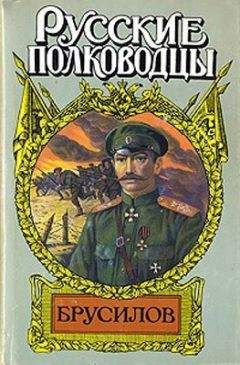Саввич снова напомнил о себе. Он окончательно покидает Иванова до начала операций. На его место Михаил Васильевич рекомендовал Владислава Наполеоновича Клембовского[35], очень дельного, знающего генерала. Но это не выход. Больше того — честный человек, серьезный работник, Клембовский легко может убедиться в том, что его начальник… Нет, этого нельзя допустить! Но что, что делать? Иванова нужно устранить от командования. Но как сделать это так, чтобы не задеть царя? Но нельзя же и предстоящее наступление свести на нет!..
Тринадцатого декабря царь вернулся в ставку без сына, сообщил Алексееву, что наследнику лучше и сам он себя чувствует бодро и рад скорой встрече с гвардией, смотр которой он собирается произвести 15-го. Ни тени былого недовольства своим начальником штаба…
Михаил Васильевич тотчас же это отметил. Чтение рапорта Бонч-Бруевича, очевидно, возымело должное действие. Надо было воспользоваться удобным случаем и поднять вопрос об Иванове. Изложив в общих чертах создавшуюся перед наступлением обстановку на боевой линии Юго-Западного фронта, Алексеев просил его величество всемилостиво обратить особое внимание на неудовлетворительную работу штаба Юзфронта.
В самый важный период подготовки операций главнокомандующий ссорится со своим начштаба и увольняет его. Виновником этой ссоры безусловно является Николай Иудович. Он не верит в операцию 7-й армии, хитрит, оттягивает без нужды начало операции, отчего она утрачивает всякое подобие внезапности. Не дает руководящих указаний для объединения работы армий, ограничивая свое руководство одним лишь писанием критических замечаний… Генерал Щербачев жалуется на предвзятость комфронтом и тоже готов потерять веру в благополучный исход.
Все это подрывает дух армии. Командиры частей, штаб- и обер-офицеры давно уже весьма нелестно отзываются о своем главнокомандующем, и, что всего печальнее, их мнение нельзя оспаривать…
— Я сам, ваше величество, с прискорбием прихожу к выводу, что Николай Иудович, видимо, устал, потерял нерв в работе и не в силах больше справляться с таким ответственным делом… Он не однажды лично повторял мне это и просил отпустить его на покой. По мере сил я поддерживал в нем бодрость, говорил ему о том безусловном доверии и уважении, какое питаете к нему вы, ваше величество, но… боюсь, что Николай Иудович прав… годы сказываются… Тяжкая и героическая задача, какая выпала на долю Юго-Западного фронта во все время войны, не могла не измотать старого человека… И я склонен думать, что для блага дела… вашему величеству придется, как это ни больно…
— Да, да… пожалуй…
Царь улыбнулся, вспомнив что-то веселое, и посветлевшими глазами посмотрел на Алексеева.
— Вы знаете, Михаил Васильевич, я это заметил… он уже не может удерживать… вы представляете себе? Громко при всех! Он так, бедняга, растерялся…
И, смеясь, Николай неожиданно пожал Алексееву руку.
— Я очень благодарен вам, Михаил Васильевич. Вы ограждаете меня от многих неприятностей… Я ценю и вполне вам доверяю. Теперь, как никогда, надо быть осмотрительными. Мы с вами окружены врагами и подозрительными субъектами… Малейший опрометчивый шаг…
Он помолчал, потрогал усы, не зная, что еще сказать, устав от долгой речи.
Алексеев стоял перед ним, ожидая дальнейшего. Но царь отпустил его, так и не добавив ничего больше об Иванове.
Он уехал в Киев, оттуда в Волочиск.
15 декабря в восемь часов утра верховный делал смотр 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. Утро было по-весеннему теплое, поля дымились, выпавший было снег растаял, к полудню развезло по дорогам невылазную грязищу. Поэтому смотр 3-й Варшавской гвардейской дивизии пришлось произвести у самого поезда. В три часа Николая доставили в Подволочиск, где ждали его 1-я и 2-я гвардейские пехотные дивизии с да артиллерией.
Уже темнело, когда царь в своем автомобиле проехал дважды вдоль рядов — снаружи и внутри, после чего придворный протоиерей Шавельский отслужил молебен в центре огромного каре, одну сторону которого заняли преображенцы.
Игорь стоял на правом фланге своего батальона. После молебна из тьмы раздался тусклый голос:
— Прощайте, молодцы!
На невидимом поле поднялся глухой рев тысячи глоток, кричавших «ура». Но как не похож был этот рев на те грозные волны, подгоняющие друг друга и слышные за много верст, каким внимал Игорь, стоя с Зайончковским на прилуцком холме…
На другое утро, едва забрезжил свет, гвардия двинулась в наступление.
Туман мешал артиллерийскому огню.
Преображенцы доползли до проволочных заграждений австрийских позиций и в нескольких местах взяли первую линию обороны.
В тот же день части 9-й армии, начавшие атаку 14 декабря, тоже добрались до проволочных заграждений, штурмовали некоторые участки, но неудачно.
16 декабря начала штурм 7-я армия. В течение трех дней двумя корпусами она овладела тремя линиями окопов. Теснимый 3-й Финляндской дивизией, противник отступил на правый берег Стрыпы, не успев даже уничтожить мосты. Спустя два дня части 7-й армии продвинулись еще дальше, захватили высоты юго-восточнее Куйданова, но закрепиться не сумели.
В высшем командовании шел разброд и недовольство. Никому не были ясны задачи, поставленные перед войсками штабом фронта. В ходе боев Иванов изменил свой первоначальный план и дал новую директиву. Предполагалось привести ее в исполнение не позже 14 января, но «ввиду недостаточной подготовки армии», как заявил Алексееву главнокомандующий, отложена им впредь до распоряжения. На это Алексеев, окончательно уверившийся в том, что Иванов сорвал наступление, заявил ему, что никаких новых задач армиям ставить незачем.
Германия требовала от Румынии немедленного выступления на ее стороне. Русское командование принуждено было тем самым держать наготове свободные войска и не начинать решающего сражения, которое могло связать руки.
Так безрезультатно и бесславно закончилось декабрьское наступление.
Молодая армия Щербачева, с первых же дней боев показавшая свою боеспособность и выдержку, была растрепана по пустякам. Потери фронта в людском составе достигли пятидесяти тысяч.
Алексеев докладывал царю о печальных итогах боев, просил его подумать о замене Иванова.
— Это невознаградимые потери, — сказал он.
— Ну что же — потери! — возразил царь. — Без потерь нельзя… Да и кто может заменить Иванова? Сейчас не время об этом говорить… отложим до другого раза, Михаил Васильевич… Старика распушите как следует… Скажите, что я недоволен…
И началась переписка. Ставка отчитывала штаб фронта, Иванов пушил командующих армиями. Командующие резонно возвращали упреки главнокомандующему. Все валили друг на друга и на дурную погоду.
Погода и точно стояла из рук вон плоха. Шел снег, таял, разводил непролазное месиво на палях и дорогах. Люди и лошади вязли, изнемогали, продовольствие застревало в пути.
О главной причине беды знали, пожалуй, только два человека, и оба они томились этим.
Алексеев бесплодно корил себя за то, что у него не хватило духу вовремя настоять на смещении Иванова.
Брусилов возмущался, что он, командарм-8, недостаточно резко выступил против плана главнокомандующего, не сумел настоять на своем, не добился разрешения организовать ударную группу.
— Мы все, все мы, командующие армиями, должны были бы просить верховного о смещении Иванова! — говорил Алексей Алексеевич. — Ну какой же грамотный командующий мог отвести армии Щербачева такой широкий фронт? Какой злостный кретин мог позволить Безобразову так безобразно растрепать гвардию в бессмысленных стычках? А что делали мы? Находясь в полной боевой готовности, мы, как идиоты, смотрели на уходящие к седьмой армии мимо нашего носа резервы противника! Высылали разведчиков, бесцельно болтавшихся по ночам! Срамота! Хуже того — издевательство!
И самому себе, убежденно: «Сомненьям нет места! Иванов — предатель».
Но тотчас же, затаив боль, говорил своему начальнику штаба:
— Ну что же, давайте работать. Будем готовиться к наступлению, к победе. Наступление мы вырвем у командования… а победу… Победа никогда не уйдет от нас. Надо только всегда быть к ней готовым и уметь схватить ее вовремя. Знаете, как счастье… Это мною уже проверено в молодости, когда я ухаживал за любимой девушкой, впоследствии ставшей моей женой… Итак, главный удар мы с вами намечаем на Луцк. Два вспомогательных участка… вот смотрите…
Но начальник штаба не смотрел туда, куда ему указывал командарм. Он вглядывался все с большим сочувствием и тревогой в обострившийся профиль Брусилова, в покрасневшие веки, в глубокую синеву под глазами. И, боясь обнаружить это сочувствие и тревогу, проговорил нерешительно: