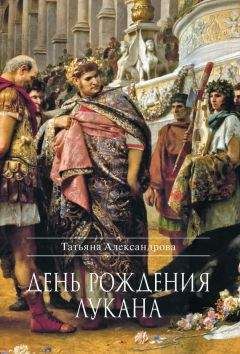– Я почти уверен, что это… он поджег Город, – глухо проговорил Лукан.
Сенека внимательно посмотрел на него и сказал, понизив голос:
– У тебя есть веские основания так думать? Не бросайся такими словами, мой мальчик! Это может плохо для тебя кончиться.
– Я знаю, о чем говорю! – упорствовал Лукан.
– Тогда мы побеседуем об этом. Но позже, не сейчас. – После этого философ вновь заговорил громко. – А сейчас я поделюсь с вами совсем свежей прелестной шуткой, которую выдал сегодня мой прогимнаст[129] Фарий. Я теперь каждый день трачу какое-то время на упражнения, – что и тебе, мой юный друг, настоятельно советую делать. Так вот, Фарий – это восьмилетний мальчуган. Мне, правда, и такой прогимнаст уже не по силам, я и за ним не могу угнаться и быстро устаю. Но сегодня он выразил удивление по этому поводу, сказав, что мы с ним в равном положении: у нас обоих кризис, потому что у обоих выпадают зубы.
Лукан и Полла дружно рассмеялись, потому что шутка ребенка в устах старого философа сразу разрядила тревожное напряжение, владевшее ими…
Несколько дней спустя в жаркий полдень они сидели под сенью виноградных лоз, любуясь их колеблющейся тенью. Лукан рассказывал, как желание поехать в Египет чуть было не завлекло его в ловушку. Сенека только качал головой:
– Что тебе на это сказать… Честно говоря, не знаю… Каждый день приносит нам нечто неожиданное. Искренне сожалею, что я, выходит, невольно вверг тебя в эту беду. Но слава богам, тебя избавившим! А я ведь не раз вспоминал о наших прошлогодних задумках, особенно когда весной сюда, в Путеолы, прибыл александрийский флот. Думал, не поплывешь ли и ты с ним. Знаешь, это волнующее зрелище! Сначала идут вестовые корабли, возвещающие скорый приход остального флота. Их появление радует всю Кампанию: в Путеолах весь народ высыпает на мол и ждет. Суда из Александрии отличаются по парусной оснастке: только они поднимают малый парус, который остальные распускают лишь в открытом море. Дело в том, что верхняя часть паруса очень ускоряет ход корабля, поэтому, если ветер слишком сильный, рею приспускают. И вот как только суда зайдут за Капрею и мыс Минервы, они вынуждены спускать парус. А у александрийских кораблей он расположен ниже, и потому они могут его оставить…
Он вдруг прервал рассказ на полуслове и добавил:
– Ну, в общем, не печалься сильно! Поплывешь когда-нибудь и ты на александрийском корабле…
– Да я, дядя, о самом Египте и не особенно печалюсь! – со вздохом ответил Лукан. – Пока что опишу его по Страбону и по твоим рассказам. Кстати, ты мне поможешь разобраться со змеями?[130]Помнишь, мы с тобой читали когда-то Эмилия Макра, но я не все могу представить вживую.
– О чем речь? – с готовностью откликнулся философ. – Конечно помогу!
– Но дело не в этом, – продолжал Лукан, возвращаясь к оставленной теме. – Если что и тревожит меня – так это только мысль, что со мной так будет всегда. Я учился в Афинах – он расстроил все мои начинания, вызвав меня сюда раньше срока. Я хотел поехать в Египет – он меня не пустил. Я задумал эпос – он запретил мне его сочинять. И так всю оставшуюся жизнь?
– Будь терпелив, мой дорогой! Ты еще мало жил и мало видел. Поживи с мое – и ты поймешь, что иногда времена меняются так стремительно, что не успеваешь заметить, как это произошло. Быстрее, чем декорации в амфитеатре. Только что была голая арена – и вот уже выросли горы и оазисы пальм, а потом вдруг все покрыло море, и корабли плывут, надувая паруса…
Тут Сенека заметил вошедшего раба-нотария с письмом в руке.
– Что-то важное? – спросил он.
– Письмо от господина Луция Юния Галлиона, – ответил тот.
Сенека поспешно взял из его рук запечатанные дощечки, раскрыл и прочитал про себя. На лице его сначала читалась тревога, но по мере чтения письма напряженные морщинки разгладились, и в конце концов философ вздохнул с облегчением:
– Слава богам! Это господин мой Галлион уведомляет меня о том, что направляется в наши края и, возможно, уже сегодня вечером будет здесь. Последнюю весточку от него я получил еще до пожара и очень беспокоился о нем.
Галлион действительно приехал в тот же день. Несмотря на дорожную усталость, ему очень хотелось поделиться новостями, поэтому, пока он отправился в баню, Сенека велел приготовить праздничный ужин, отличавшийся, впрочем, от обычного только тем, что к неизменному винограду и смоквам добавились яйца, сыр, творог и медовое печенье. Все уже собрались за трапезой, когда Галлион присоединился к ним.
Видя братьев Аннеев вместе, Полла всегда поражалась их сходству и одновременно несходству между собой, а заодно и с ее мужем. Те же определенные, резкие черты лица, красиво очерченный рот, массивный подбородок, но в Галлионе эти черты легли наиболее утонченно и гармонично. В то же время, будучи предельно сдержан в выражении своих чувств, Галлион всегда находился немного в тени младшего брата, в нем не было изысканного красноречия и искрящегося остроумия Сенеки. Однако на этот раз от волнения он был более раскован, чем обычно.
– Расскажу вам вкратце все, что сумел узнать. Пожар начался с Большого цирка, с той его части, которая примыкает к Палатину и Целию. Там, как вы помните, деревянные лавки, а в них и ткани, и папирус, и тут же амфоры с маслом – вспыхнуть ничего не стоит. Сначала огонь распространился по всему цирку, а потом, поскольку дул австр, его понесло на Палатин. Загорелся старый дворец, затем форум, Субура, и дальше пошло по улицам. Город превратился в пылающий Пирифлегетонт подземного царства. Сами знаете, как у нас: улицы кривые, застройка тесная, тушить нечем. Горело шесть дней и семь ночей, с каждым днем огонь распространялся все шире и шире. Всего выгорело десять концов из четырнадцати. Народ прятался в каменных памятниках и склепах. Погибших – тысячи. Многие задохнулись в дыму. Когда я уезжал, пожар потушили у подножия Эсквилина.
– Выходит, наша золотая клетка цела… – с мрачной иронией произнес Лукан. – А я-то уж надеялся было на освобождение! А также могу поспорить, что почти не пострадал – нет, ну, конечно, пострадал, но больше для видимости, закоптился! – Проходной дворец. Так?
– Примерно так… – растерянно откликнулся Галлион. – Но что ты этим хочешь сказать?
– То, что уже начал говорить дяде Сенеке: пожар – дело рук самого… и не исключено, что к нему так или иначе причастны Север и Целер.
– Самого не было в Риме, – неуверенно продолжил Галлион. – Он был в Анции и сразу вернулся. Проявил себя на удивление деятельным. Поднялся на смотровую башню на Виминале…
– И спел оттуда о пожаре Трои?
– Ты откуда знаешь? – удивился Галлион. – Да, ходят уже в народе такие слухи. Хотя те, кто был при нем, – я имею в виду заслуживающих доверия людей, – говорят, что он поднимался туда исключительно по делу: чтобы понять, в каком состоянии город. Тем не менее вот еще что интересно. Я слышал, что многие ловили у себя во дворах злоумышленников с факелами и паклей, которые говорили, что им приказано жечь. Кем приказано, разумеется, не признавались, но якобы некоторые из этих злоумышленников были одеты как августианцы. Однако я все же отказываюсь в это верить! Я понимаю, что правитель может устранить своих противников, представителей враждебной партии. Он может под предлогом разоблачения заговора завладеть их богатством. Но поджечь великий город, находящийся в его власти, – какой в этом смысл для правителя? Разве может он в своей стране, в родном городе вести себя подобно завоевателю? Или же я устареваю и не могу уразуметь хода мысли нынешней власти? А как понять, при чем здесь строители Север и Целер? Ведь пострадало и творение их рук!
– Сильно пострадать оно не могло, – убежденно заявил Лукан. – Ведь перекрытия для крыши еще не ставили и отделка в основном объеме здания, если не считать той части, которая примыкает к Палатину, даже и не начиналась. Гореть там было нечему…
– Лукан, ты либо слушай старших, либо уж не темни и выкладывай, что знаешь, – неожиданно строго произнес Сенека.
– Что я знаю?! – воскликнул Лукан, немного обиженный недоверием к его словам. От волнения у него, как обычно, начала дергаться щека. – Знаю то, что слышал многократно, – и от него самого, и от других. Сетования о том, что Город не соответствует своей славе, что принцепсу прямо-таки стыдно возводить столь совершенные постройки посреди такого убожества. Помню, кто-то процитировал при нем Еврипида:
Когда умру, пускай земля огнем горит!
Он прервал его: «Нет! Не «когда умру», а «пока живу»»! А если говорить скучной прозой, то ему просто надо было расчистить место под строительство. Все остальное только предлог. Он одержим страстью к вечной славе, но самому ему боги не дали достаточных талантов для этого. Возможно, в глубине души он понимает, что он дрянной поэт и дрянной певец, как понимает и то, что убийство – это нечестие. Может, он и проблеял что-то о Трое с башни, но он сознает, что, если теперь обнародует эти стишки, ему точно не удержать власть, а стишки все равно канут в Лету. А вот то, что делают строители Север и Целер, да еще художник Фабулл, – это поистине достойно великого правителя. Помяните мое слово, очень скоро он возведет великолепный дворец и отстроит новый Рим, который будет всем хорош, – если не считать того, что он возведен на крови и костях собственных граждан. Насколько причастны к этому сами Север, Целер и Фабулл, я не знаю, но им этот пожар сулит много работы и огромную прибыль.