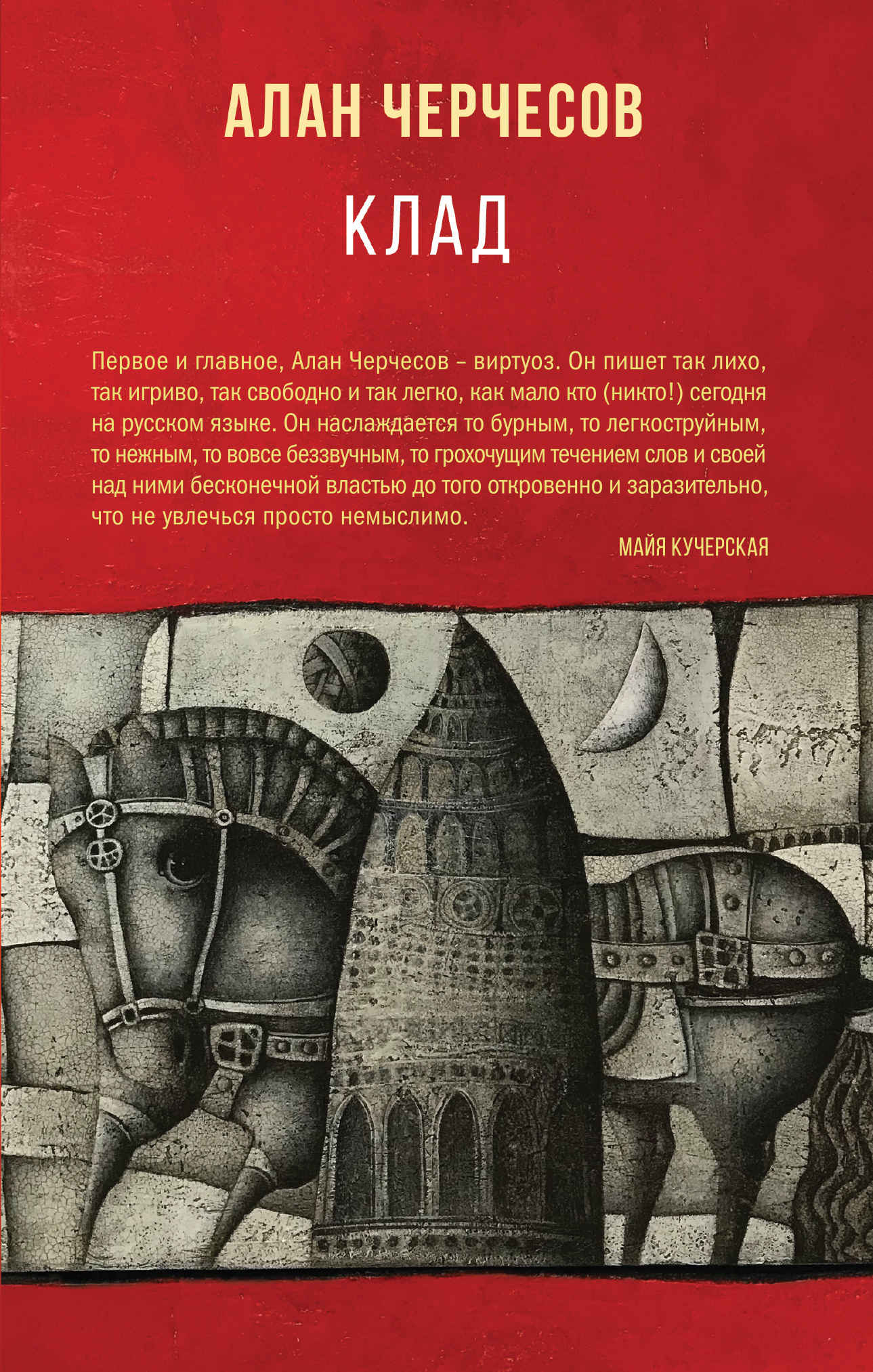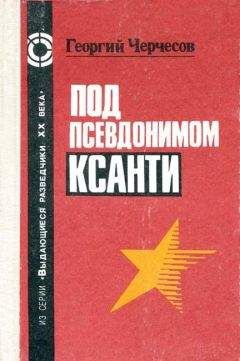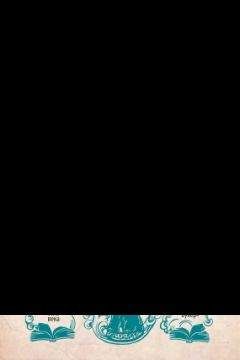же они горцы. Дам им три дня. Трех дней достаточно.
Старик пожал плечами. Мальчишка не сводил с Хамыца глаз. Сумерки заглушили половину отпущенного на сутки света. В стороне дышали угли от костра.
– Через три дня ты убьешь меня? – спросил мальчишка.
– Не здесь, – сказал Хамыц. – Все будет по правилам.
– Небо возвратило тебе коня, – сказал хозяин.
– Одного. Их было пять. И нас пять братьев. Даю им три дня.
– Небо возвратило тебе коня руками мальчишки.
– Верно. Коня я оставлю, а мальчишку отпущу обратно на небо, если оно не вернет всего, что забрало. Или законы адата не оно нам установило? Не небо?
Старик не ответил. «Я возьму это на душу, – думал Хамыц. – На то я и старший в роду, чтобы брать это на душу. Он все же взрослее моего сына. И одной крови с теми. Я больше не пойду против богов…»
Сквозь узкие щели в сарае он видел, как ссыпают с арбы плитняк. Голова шла кругом, но голод все не убивал его. Он не ел четвертые сутки, и до заката теперь оставалось совсем немного. Он не успеет умереть. Голод обманул его. Он зря старался. Вчера утром он последний раз помочился на каменный угол. Но не пить два дня оказалось тоже слишком мало. Его прирежут, как ягненка в жертвенный час. Он не сможет не кричать.
Дверь заскрипела, и в сарай робко вошел немой. Он постоял на порожке, опасливо примериваясь к расстоянию, которое предстояло одолеть. Мальчишка отвернулся и хотел презрительно сплюнуть, но слюна повисла на губах белым сгустком. Он крепче схватился за стену. Слышал, как немой быстро прошагал за спиной, сменил миску и опрометью выскочил вон. Глухо щелкнул засов. Дурак, подумал мальчишка. До сих пор боится. Он вытер рукавом рот и присел на земляной пол. Задетая цепь сыто звякнула.
Главное, смотреть перед собой, тогда меньше кружится. Он снова прикрыл глаза, хоть больше и не верил, что получится. Сперва-то он верил и лежал часами на спине, сложив на груди руки, и уговаривал себя умереть. Иногда ему даже чудилось, что он поймал ее, но смерть всякий раз ускользала, едва он подымал веки, пряталась в потолок, и вместо нее спускался страх. Когда он засыпал, ему снился собственный крик. Сон всегда заканчивался криком, а что было перед тем, припомнить он не мог. Сначала забывал припомнить, а потом уж просто не мог, хоть и пытался. Когда еще руки его были гибкими, он прочно охватывал себя за плечи и давил локтями на грудь. Только дыхание все равно было сильнее. Прошлым днем он подполз к той стене, где торчал крюк, и обмотал шею цепью. Конец ее тогда еще был прикован к его лодыжке, так что пришлось выше подобрать ногу, чтобы влезть в железную петлю. Он долго ждал, пока не свело судорогой икру и не стало совсем холодно, потом ждал еще столько же, убеждая себя сделать это. А когда убедил, кинул ногу вниз. У него почти получилось… Немой все испортил. Он навалился сверху прямо на глаза и стал срывать с него цепь, а сам мальчишка помогал ему бешеными руками. Потом кашель прошел, и он снова мог слышать. Немой жалобно мычал и водил ладонями по его ногам. Отдышавшись и перестав дергаться, мальчишка смотрел, как руки его подбираются к немому, ближе и ближе. Он смотрел и не мог помешать им. Потом руки впились кольцом тому в шею и нащупали на ней твердую точку. Немой отбивался, ударяя коленями его в пах, но руки все не слушались. Им просто не хватило сил. Уже тогда им не хватило сил, а немой боится до сих пор. Дурак, лениво подумал мальчишка.
Он покосился на миску, в которой парилась еда, но дальше не сделал ни движенья. Прилег на землю и уставился в потолок, слушая голоса снаружи и размышляя о том, почему немой смолчал. Один из них его язык разбирает. Если б нажаловался, уже бы было позади. Но с самого первого вечера никто в сарай и не заглядывал, не считая того раза, когда вошел Хамыц и разбил цепь на ноге. Дурак немой. Все дураки. И сволочь смерть.
Он что-то припомнил и вновь взглянул на миску. Он смотрел на нее несколько минут, потом ползком приблизился к ней и сдвинул миску в сторону. Блестело лезвие, он не обознался. Мальчишка взял нож в руки и повертел его перед глазами. Слушая, как сгружают с арбы плитняк, он думал: верхний ярус уже снесли. Должно быть, от дома уцелел один хадзар. Из него они устроят времянку. И будут жать с нашей земли.
У него не хватит сил пустить нож в дело. Да и не того немой хочет. Он не может желать смерти своему отцу. А ему, мальчишке, второго раза не выдержать. Он не убьет себя. Нет, второго раза не снести. Тот просто чокнутый. Он хочет чего-то другого. Только мальчишке не понять. Он устал.
Откинувшись на спину, он полежал немного, дыша как можно реже, чтобы не мутило от запаха из миски. Он больше не верил в то, что станет совсем легким и смерть подберет его, невесомого и покорного, и помчит туда, где он встретит покой, и мать, и отца, и, может быть, деда, и брата с сестренкой – тех, настоящих, кого она, смерть, прибрала давно уже, прежде еще, чем те уяснили, что у них кто-то есть… Он не ел трое суток и еще целый день, но так и не сделался достаточно легким. Он только измучился и устал.
Он услышал, как кто-то скребется в дощатую стенку, и приподнялся на локтях. Потом он понял, но еще колебался, не решаясь двинуться. Он все равно не успеет. И закат уже ближе стены. «Они не простят немому. И я ему не прощу, ведь я не успею. Я уж точно не прощу», – думал мальчишка. Голоса снаружи ничего не знали и были глупыми, как ветер или смех. Как любое из того, что лежит снаружи.
Он встал и неровно пошел туда, где начинались доски. Немой уже не скреб. Он ждал. Мальчишка упал на пол и принялся взрыхлять ножом неподатливую почву. Он не думал о том, что громко. И впервые не думал о еде. С внешней стороны стены вкатилась слабая жидкая струйка. Он переждал, пока земля впитает влагу, размышляя о том, как когда-то душил друга. Он снова взялся за работу, вонзая лезвие в лунку и выгребая оттуда землю. О закате