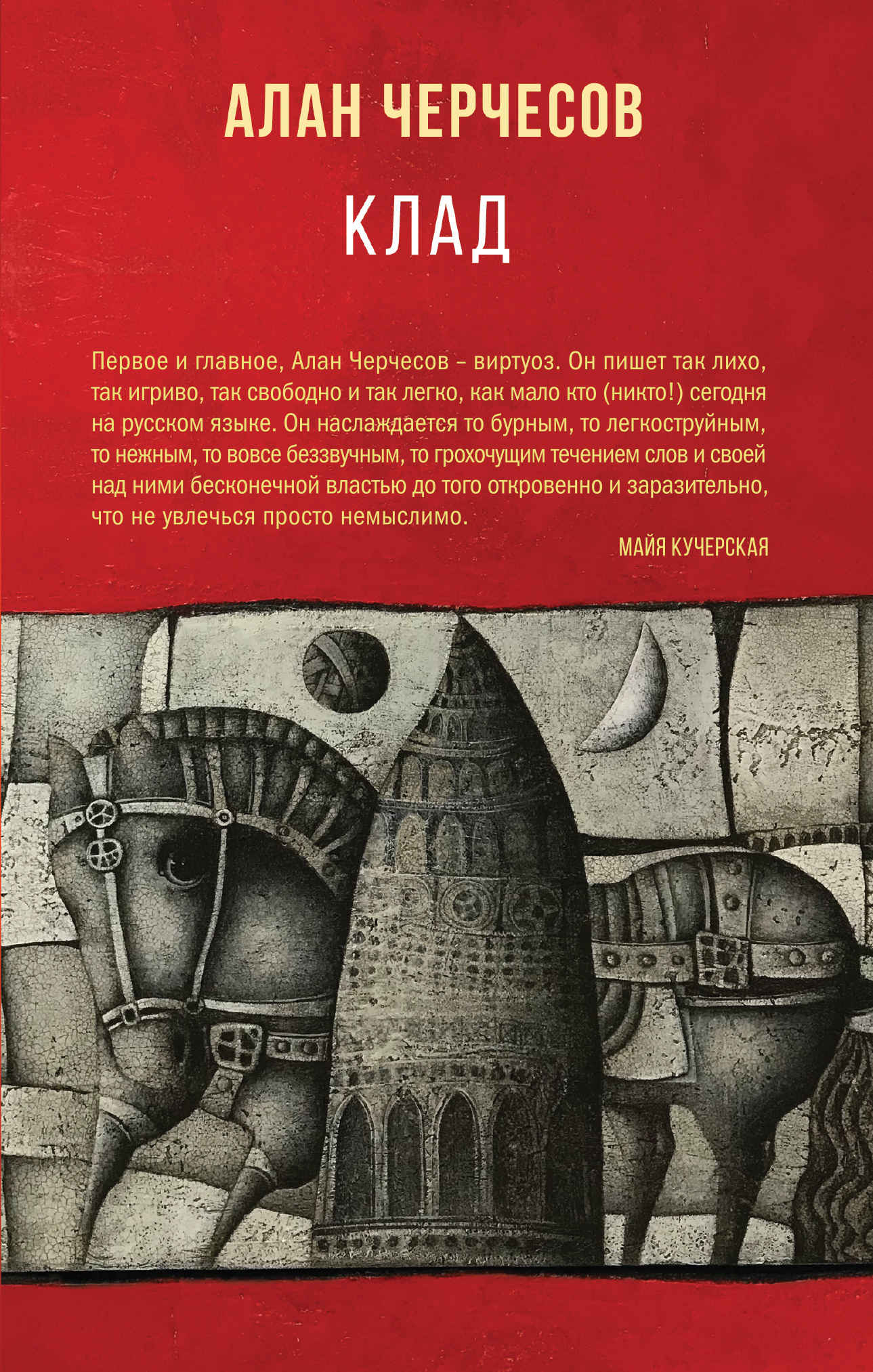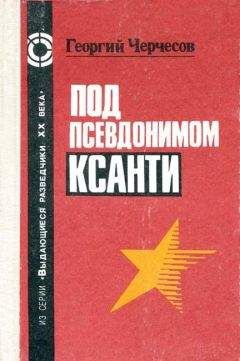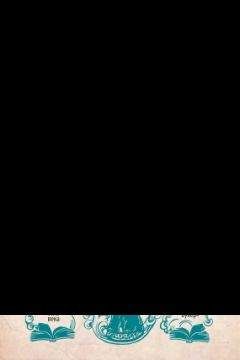он почти забыл. Яма росла и свежела, как четкий след в сумерки, и была теперь сырой и жирной. Ласково угасал свет сквозь щели, но его это не тревожило.
– Так не бывает, – бормотал мальчишка. – Может быть как угодно, только не так. Иначе он не простит мне.
Он заметил, что порезал ладонь, и опустил руку во взросший холмик. Ранка забилась землей и чуть кровоточила, отдаваясь изнутри частыми толчками. Теперь он копал вбок. Едва ли он слышал дыханье с той стороны. Над ним скатались в вечер плотнеющие тени. Он сменил руку и подобрал ноги, упершись в стенку лбом. «Потом я напьюсь, – подумал он. – Я выпью всю нашу реку от поворота до аула…»
Хамыц глядел в западающее за горизонт небо и ненавидел его. Целый день он желал хотя бы грозы, хотя бы дождя – любого знамения, но небо опять не помогло ему. Свод бесшумно и непреклонно свершил еще один круговорот и расслоился в желтом сумраке.
От долгого сидения затекла шея, и он потер ее, разгоняя кровь. «Я даже не спросил его, зачем вернулся, – подумал он о мальчишке. – Если, конечно, ему самому это ведомо. Только едва ли он знает. А коли и знает, так вовсе не то, что на деле. Но штука не в нем. И не в его гордости. В ином штука…»
Он сидел на голой коновязи спиной к дому и сараю, сложив меж ног руки и дожидаясь чьего-нибудь оклика. За эти дни из плитняка выросла у забора горка, от которой каждый из братьев старательно отводил глаза. Камни ценой в тридцать верст, туда и обратно, сложили посреди двора могилу – их позору, их же собственными руками, будто не разумнее было раскидать плитняк прямо там, на месте, а остальное сжечь в первый же день, чтобы – ничего, кроме праха и тлена, ничего, кроме пепла на пятачке земли, вскормившей подлецов.
Только ведь месть, покуда не пообвык, завсегда рукам работу ищет. Он опустил голову, слыша спиной присутствие сына. За трое суток он выучился слышать спиной. Его сын часами торчал у сарая, и ни разу он его оттуда не погнал. Вот в чем штука. А потом сам сбил цепь с ноги мальчишки. Цепь была лишь поводом. Батраз сказал ему про нетронутые миски, и он тут же, не откладывая, взял тесак, молоток и направился к сараю. Только он не стал смотреть мальчишке в глаза. Он не смог себя заставить, хоть затем и пришел.
Его сын стоял за спиной, а в остальном было тихо. Тревога уже не копилась, а просто присохла изнутри липкой гарью.
Они похитили не коней. Они похитили надежду. Или то, что в нем было вместо нее. И небо вдобавок подсунуло этого мальчишку и выделило тому на стражу его сына. Оно опять схитрило. Оно всю жизнь с ним хитрило. Потому и сделало хозяином раньше срока, потому снабдило потомством, лишенным речи и просто человеческого голоса. А после оглушило его самого – настолько, что не слышал собственного сына. Слышал Батраз и слышала мать его ребенка, только та не в счет: мать ведь всегда слышит.
А когда он захотел что-то исправить, оно отняло у него надежду, да еще принудило шагать по бескрайней дороге к своему позору с седлом на плечах, и рядом – жирная овца… Оно вернуло ему коня, но так и не вернуло братьям, хоть те не по своей вине потеряли. И теперь он ждет чьего-нибудь оклика.
Он смотрел, как стекает за гору закат, как по следам его крадется ночь, и длинно размышлял.
Вздумал с ним тягаться, и оно, небо, покарало его. Братьев он взял для отвода глаз, сказав, что в крепость дом присмотреть (будто было на что покупать!), а они поначалу не поняли, но ничего не спросили: на то он и старший. Но когда сделали привал в полуверсте от Святого куста, им стало ясно. Быть может, и раньше – иначе зачем им овца, самая жирная в стаде? И зачем бурдюк с аракой? Он вздумал солгать и выбрал будний день, чтобы с рассветом принести богам жертву и просить их спасти сына; и дать ему быстрый язык вместо ленивого; и спасти отца в себе самом; и мужа тоже, ибо за семь лет он перестал быть и мужем, не только отцом. Он долго терпел свое безверие.
Веру он потерял давно. С тех самых пор, как она убила его отца. Его нашли в ближнем дзуаре, в святилище, с перекошенным ядом лицом и раскинутыми по полу руками. Они исцарапали всю землю вокруг, а святые дары откатились к стене. Там же, у стены, отыскали потом и гнездо – тихую ямку с гладкими краями. Только никакой змеи там уже не было. Никакой змеи, лишь отравленная насмерть вера в искаженном лице.
Через несколько дней он вернулся туда. Сперва ему не было страшно, и он не спеша обложил дзуар сеном. Вставало утро, ветер дул ему в спину. Он глядел, как занимается пламя, и глотал сладкую слюну. Ему хватило сил запалить все сено, а потом стоять и ждать, когда огонь примется за постройку. Дым чернил пожаром спугнутое небо и бежал за облаками. Хамыцу не было страшно, и он лишь отошел в сторонку, чтобы лучше видеть. Несколько раз что-то треснуло внутри, и он подумал: кости или рога. Костей там много, охотники на жертвы не скупились.
Он досмотрел до самого конца, до тлеющего обугленного остова. Так что теперь нужно было шагнуть да пнуть ногой подпорки. Только он не стал этого делать. Это было страшнее даже, чем поджигать. Ему никогда не было так страшно…
Когда сын родился, сперва Хамыц запрещал себе думать о каре. И даже тогда, когда думали все, и после, когда все смирились. Он ждал два года, но сын так и не заговорил, хотя и не молчал. Это-то хуже другого было. Дом полнился его рваным мычаньем из беспомощной глотки и сторонился крошечных суетливых рук. Только он, Хамыц, решил ждать и третий год, но сам перестал говорить с женой и за семь лет ни разу ее не коснулся. Да, он ждал еще семь лет. И когда понял, что то не возмездие ей (не может быть возмездием его мука!), и понял, что лгал – лгал давно и даже прежде, чем превратился для нее в немого сам, добровольно, – больше уж молчать не мог и тогда вспомнил про Куст. Разрешил себе про него вспомнить.
Он все же