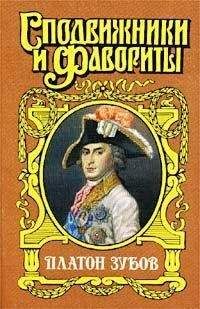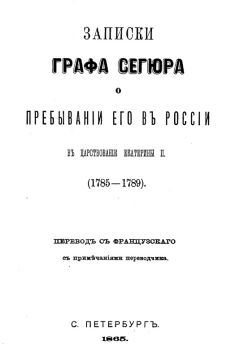В. В. Капнист — А. А. Капнист. 11 ноября 1791. Кременчуг.
…Новинки следуют: князь предчувствовал, что ему умирать. Причиною смерти его обжорство. 30 числа сентября в день рождения своего он сказал, чтоб г. лекаря его не беспокоили, ибо он точно умрет. Его все внутренне жгло. И он все себя холодною водою опрыскивал. Потом захотел для перемены воздуха выехать в Николаевск. На первой почте заснул. Ночью поздно проснулся и нетерпеливо велел ехать далее. Отъехав несколько верст, почувствовал, что ему дурно, велел остановиться; подбежавшим к нему сказал, что он уже их не видит, чтоб его вынесли, что он уже умирает.
Как в торопливости смешались, то он сам ногу на ступеньку поставил, сошел. Ему послали матрас, и он на него легши, попрощался и умер. Графиня Браницкая бросилась в беспамятстве на него и стала ему дуть в уста. Ее подняли и оторвали от него. С ним были, кроме ее, Фалеев, Львов и Кишинский.
Зимний дворец. Кабинет Екатерины II. Екатерина и П. А. Зубов.
— Наконец-то одни! Кажется, никогда еще так не уставала, как нынешнего дня. А все бестолочь — ни одного дельного разговора, со сколькими послами ни толковала. Все они на воду дуют, хоть молока и пробовали горячего. Но больше никаких дел. Садись на скамеечку, Платон Александрович, ко мне поближе и…
— Государыня, я понимаю вашу усталость, но…
— Какое «но»?
— Есть еще одно неотложное дело, о котором, по моему разумению, надо не откладывая в долгий ящик поговорить.
— О чем ты, друг мой?
— Право, не знаю, может быть, ваша скорбь по князю Таврическому еще не утратила своей остроты, но интересы государственные не терпят промедления, и лучше, если завтра с утра вы начнете принимать сановников с готовым решением по Малороссии.
— Что-то не пойму, какое решение ты имеешь в виду.
— Государыня, я задаю вам ненужный и очевидный вопрос: вы во всем были довольны покойным князем в делах управления Новороссийским краем?
— Платон, тебе ли не знать, что нет и почему именно. Решения разумные чередовались у князя с откровенным грабежом государственной казны. Он сделал из Новороссии свою вотчину, которой не занимался вовсе, требуя от случайных управителей лишь доходов на свои личные нужды. Но это долгий разговор и не ввечеру же его вести.
— Но завтра с утра вас окружит толпа ваших любимых советников и, не успеешь оглянуться, как вы подпишете какой-нибудь ими и в их пользу составленный указ, который я хочу предупредить.
— Друг мой, я вижу твое волнение, но прошу тебя, выражайся более внятно: чего ты хочешь от меня?
— Не лично от вас, но от императрицы. Если вас, в конце концов, не удовлетворял ни образ жизни князя, ни его способ ведения дел, я хочу предложить, чтобы вы, ваше величество, попробовали в этом качестве меня.
— Тебя? Но, друг мой; у тебя нет нужных навыков. И потом твоя молодость…
— Она не мешает вам называть Зубова своим другом, спрашивать его советов и даже принимать их — кстати сказать, слава Богу, все чаще и чаще, — а официальное назначение вас почему-то пугает. Если вы считаете меня непригодным для таких действий, избавьте меня от необходимости обсуждать с вами и все остальные дела. Я просто буду молчать и займу положенное мне место в антикамере — не дальше!
— Друг мой, ты непомерно возбудился. Мы непременно все обсудим…
— Когда-нибудь! Но меня это не устраивает. Совершенно не устраивает. Кстати, вы знаете, что мне удалось узнать от наших агентов в Берлине? Полагаю, для вас это станет совершеннейшей новостью. Малороссийские помещики приезжали туда просить помощи от князя, точнее — от тирании русского правительства и князя Потемкина. Украинский эмиссар добился аудиенции у министра Герценберга и, не стесняясь в выражениях, спросил: могут ли они рассчитывать на поддержку Пруссии на случай их восстания? Каково?
— Когда это случилось?
— Князь был еще жив.
— И позиция прусского министра?
— Герценберг ответил достаточно уклончиво, и похоже на то, что он посоветовал своему королю не входить в сношения с украинским эмиссаром. Тот уехал не солоно хлебавши.
— Кто бы это мог быть? Надо выяснить.
— Нечего и выяснять. Петр Васильевич Капнист.
— Так… Я давно слышала о том, что он не скрывает своего недовольства тем, чему нашел название потемкинского ярма.
— Это, насколько я понимаю, брат нашего знаменитого пиита и киевского губернатора.
— Родной брат. Но Василий Васильевич всегда придерживался пути реформ, братец же оказался вон каким радикалом. Но теперь-то ты тем более должен понять, как нелегка ноша, к которой ты стремишься? Уж если Григорий Александрович…
— Опять покойник! Кажется, все его порочные деяния очевидны. Я вижу для себя иной путь — к сердцам и душам украинского дворянства. Князь тешил самого себя, я постараюсь тешить местную шляхту и надеюсь в этом преуспеть.
— Платон Александрович! Я понимаю обуревающую тебя жажду деятельности, но все не так просто, как тебе кажется. Одним хорошим поваром и сытными обедами ты ничего среди новороссийских и украинских помещиков не добьешься. Не думай, что они похожи на тех глухих провинциалов, которых привык прикармливать в уезде твой батюшка.
— Что вы знаете о нашем уезде, когда вы никогда там и не были!
— Не горячись, не горячись, мой друг. Лучше послушай. Тебе это пойдет на пользу, если ты отнесешься с вниманием к моим словам.
— Я всегда отношусь с величайшим почтением к словам императрицы, но я не создан быть постоянным школьником, ваше величество.
— Платон, я настаиваю на твоем внимании.
— Мне не остается ничего другого, как согласиться на очередную экзекуцию.
— Вот и помолчи. Я должна тебе сказать, что Петр Капнист мало в чем уступает этим бунтовщикам и масонам — Новикову и Радищеву. Богат он чрезвычайно и в своем поместье Пузыковке…
— Вы запоминаете даже такие дурацкие названия, ваше величество?
— Ничего не поделаешь, если хочешь управлять державой. Так вот, в этой Пузыковке Петр Капнист устроил род республики и установил совершенно особенные отношения со своими крестьянами. Совершенно отринув дворянские привилегии, он называет своих крестьян соседями. Да, да, именно соседями со всей вытекающей отсюда уважительностью и пониманием их потребностей.
— Не хватает еще называть это быдло на вы!
— Не исключено, что Петр Капнист именно так и поступает. Не имею представления, как далеко зашли его увлечения французским просветительством.
— Но если он занимается этим в собственных деревнях, то, в конце концов, это его личное дело. Они же его крепостные.
— А вот и не личное! Это очаг заразы, которая очень прилипчива и склонна быстро распространяться.
— Не могу себе представить помещиков, отказывающихся добровольно от своей власти над крестьянами.
— Ты не можешь — другие могут. И здесь уже начинается критика всего на свете: государственного устройства, взяточничества, расхищения государственной казны. Но главное — все государственные чиновники обвиняются в единственном и всепоглощающем стремлении к собственному благополучию и наживе.
— И что же в этом стремлении противоестественного?
— Собственное благо выше общественного!
— Но это же совершенно очевидно.
Петербург. И. де Рибас, П. А. Зубов.
— Вы знаете, что государыня доверила мне руководство Новороссией, де Рибас? Указ еще не опубликован, но он уже подписан. Ее величество не видит другого человека, который смог бы принять на себя столь сложное управление.
— Мне остается в который раз удивляться прозорливости нашей императрицы. Ее недаром вся Европа называет Великой. Ваша кандидатура, я думаю, всем, кроме прямых завистников, представится идеальной.
— Вы еще не видели меня в деле, де Рибас.
— Я знаком с некоторыми из ваших проектов, граф. О них все говорят при дворе, и они не могли не увлечь меня своей оригинальностью и размахом.
— Но вы привыкли к размаху Потемкина, не правда ли, и, само собой разумеется, переживаете его утрату.
— И да и нет, ваше сиятельство.
— Не понимаю. Разве у вас бывали трения с князем Таврическим?
— Никаких.
— Так в чем же дело, объяснитесь.
— Ваше сиятельство, времена меняются. То, что было хорошо десять лет назад, становится плохим сейчас. Или, скажем, не плохим, а уже далеко не таким удачным, не правда ли?
— Вы хотите сказать, что князь Таврический устарел для своей должности?
— Если позволите, ваше сиятельство, я уточню свою мысль. Покойный князь не устарел — устарели те проекты, с которыми он когда-то выступал. А с годами Григорий Александрович потерял интерес к новшествам. Его начали тяготить постоянные хлопоты, и он старался устраниться от них.