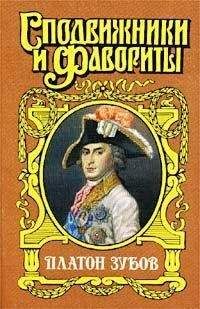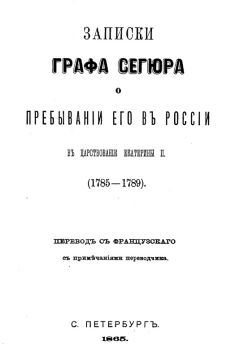— Может быть, это было следствие лагерной жизни?
— Или удаленности от столицы, к которой князь постоянно стремился.
— Зачем? Он уже не пользовался доверенностью императрицы и не мог рассчитывать на какое-либо продвижение.
— Затрудняюсь сказать, впрочем…
— Что же вы запнулись, де Рибас, продолжайте.
— Мне моя мысль представляется слишком бесцеремонной. Она, по всей вероятности, не понравится вам, ваше сиятельство, а мне никак не хотелось бы быть вам неприятным.
— Полноте, я заранее даю вам отпущение грехов. Смелее, де Рибас, я люблю откровенность, тем более у людей, в которых собираюсь найти своих будущих сотрудников.
— Я бесконечно польщен, ваше сиятельство, и — рискну сказать полную правду. Князь Таврический ревновал вас.
— Правда? Но чему же?
— Вашему успешному сотрудничеству с императрицей и той высокой оценке, которой ее императорское величество отмечала ваши труды.
— Ревновал… Как забавно, хотя, пожалуй, и справедливо.
— Совершенно справедливо, ваше сиятельство.
— И что же он говорил по этому поводу? Я не люблю сплетен, но князь Таврический, согласитесь, был великий человек.
— Ваше сиятельство, я слишком близко знал князя, чтобы полностью разделить вашу высокую оценку.
— Ах, так. Но ведь о мертвых либо хорошо, либо ничего — так гласит латинская пословица.
— А насчет ревности — видите ли, ваше сиятельство, князь утверждал, что никто никогда не пользовался таким сильным и безусловно благодетельным влиянием на нашу императрицу, как вы.
— Продолжайте, продолжайте, это любопытно.
— Я передаю только то, что мне довелось слышать самому. Так вот, князь сетовал, что ему не хватает энергии вашего сиятельства и вашей способности увлекать людей своими прожектами. И он не сомневался, что все они будут по достоинству оценены ее императорским величеством.
— Какая досада, что нам не довелось ближе сойтись с этим интересным человеком. Думаю, что я сумел бы снова воодушевить князя на новые начинания.
— Несомненно, ваше сиятельство, несомненно.
— Приятно поговорить с знающим человеком. Я рад нашему ближайшему знакомству, де Рибас. Да, и хочу спросить, каковы ваши планы на будущее.
— Они будут целиком зависеть от вас, ваше сиятельство.
— Вы хотели бы вернуться в Петербург?
— В том случае, если это необходимо.
— Это значит, вы готовы остаться в Новороссии и продолжать управление ею, как то было при Григории Александровиче?
— Если вы найдете меня для этого пригодным, ваше сиятельство. Все отчеты я готов представить в положенные сроки.
— Никаких отчетов, Иосиф Николаевич, никаких отчетов. Я вам полностью доверяю. Вы будете занимать то же место, что занимали.
— Но по всей вероятности, ее величество захочет меня подвергнуть испытанию. Насколько я знаю, у государыни были претензии к покойному князю.
— Знаю. Но с ее императорским величеством обо всех этих мелочах я договорюсь сам. Вы можете спокойно работать, и никто не будет вас тревожить всяческими дурацкими дознаниями. Довольны ли вы положенным вам жалованьем? Не стесняйтесь, Иосиф Николаевич, лучше сразу выяснить все необходимые подробности. Я, во всяком случае, действую всегда только так.
— Ваше сиятельство, не знаю, как благодарить вас за вашу предупредительность и внимание, но, с вашего позволения, пусть вопрос о моей награде решится после того, как вы лично убедитесь в результатах моей работы. Мне нечего бояться подобного испытания.
— Не сомневаюсь. И ценю вашу деловитость. Не премину доложить о ней государыне, хотя ее величество и так относится к вашему семейству с искренней симпатией. В моем лице вы также обретете доброжелателя и покровителя.
— О, благодарю вас, ваше сиятельство. Мне остается сказать, что сегодня у меня едва ли не самый удачный день в жизни.
— Даже! Вы преувеличивайте, мой друг.
— Но я обрел одновременно почву под ногами и такого покровителя и начальника, о котором мог только мечтать.
— В последнем я уверен. Так что вам остается лишь оправдывать мои надежды и — бывать у меня на обедах, когда вы в Петербурге.
Петербург. Зимний дворец. Екатерина II, А. В. Храповицкий.
— Итак, я становлюсь Пифией: новое французское министерство, эта печально знаменитая Жиронда, настояла на объявлении войны Австрии, а Пруссия вступила, в свою очередь, в союз с новым императором. Франц II получил серьезную поддержку.
— К сожалению, все выглядит именно так, ваше величество. Правда, Людовик поспешил дать отставку министерству, но этим вызвал лишь народный бунт. Наш корреспондент пишет, что 20 июня произошло нечто страшное. Толпы народа ворвались в королевский дворец и, окружив короля, стали требовать немедленного подписания декретов об эмигрантах и священниках и возвращения жирондистских министров.
— Правление из-под палки! До чего же жалкая роль у короля!
— Государыня, если бы только одним этим ограничилось дело!
— Что бы вы ни сообщили мне дальше, это будут всего лишь логичные следствия жалких поступков. Людовик сумел до конца скомпрометировать самую идею самодержавной власти. После него будет одинаково трудно управлять своими государствами всем монархам. Уверена, ему не удалось откупиться от толпы.
— На этот раз во всем был повинен манифест командующего австро-прусской армией герцога Брауншвейгского. Он пригрозил французам сожжением домов, разрушением Парижа и прочими насилиями. 10 августа в столице вспыхнуло новое народное восстание, причем восставшие перебили всю стражу короля.
— Боже правый! А король? Он жив?
— Был жив, пока писалось донесение, во всяком случае. Вместе со всем семейством он искал спасения в Законодательном собрании.
— Вы так говорите, как будто он не нашел защиты.
— Возможно, король спас в этот момент жизнь себе и своему семейству, но лишился власти. Навсегда. Законодательное собрание приняло решение отрешить его от власти и взять под стражу до решения вопроса о будущем политическом устройстве государства. Соответственно принято следующее решение — немедленно созвать чрезвычайное собрание под названием Национального конвента.
— Это конец.
— Страшно подумать.
— Это конец, Храповицкий, и нечего себя обманывать. Пугачевский бунт теперь охватит всю Европу. Кому поручена исполнительная власть?
— Дантону, который и был одним из организаторов восстания 10 августа. Наш корреспондент утверждает, что время становится все более и более тревожным. Начинается иностранное нашествие, но французская армия на деле оказывается никуда не годной. Лафайет, который командовал одной из армий, после событий 10 августа хотел двинуться на Париж, чтобы подавить бунт, но солдаты отказались ему подчиняться. Лафайет не нашел ничего лучшего, как бежать в Германию. После этого Дантону уже ничего не стоило добиться от Национального конвента разрешения обыскивать родственников эмигрантов, не присягнувших новому правительству священников и вообще кого сочтет «сюспект» — подозрительными.
— Это означает полный разгул и бесправие. Так можно сводить счеты с любым непонравившимся тебе лицом и грабить все, что тебе приглянется. Как теперь его величество видит дело своих рук — своих уступок и компромиссов!
— Да, письмо было доставлено нам с превеликим трудом. Агенты Дантона и вообще ретивые сторонники новых властей хватают всех подряд. Тюрьмы переполнены. Арестовывают не только мужчин и женщин, но и стариков и детей. Если мест в тюрьмах не хватает, их просто избивают. К тому же власти сочли нужным допустить в тюрьмы шайки мародеров, которым было разрешено в течение трех первых дней сентября творить все, что они хотели. Число убитых и замученных колоссально. Между тем через восточную границу во Францию вступили уже австро-прусские войска.
— Это хотя бы отрезвило народ?
— Ни в коей мере. Этот сброд с диким восторгом пополняет ряды народного ополчения. 21 сентября открылся в Париже Национальный конвент, а днем раньше при Вальми была отбита атака прусаков. Более того. Французы перешли в наступление. Может быть, хоть это приведет к некоему порядку.
— Нет, Храповицкий, никакие интервенти здесь не смогут помочь. Нужен внутренний мир, а он без сильной власти не наступит. Дантоны созданы не для того, чтобы созидать, но только разрушать.
Павловск. Дворец. Личные комнаты Е. И. Нелидовой. Великий князь Павел Петрович, Е. И. Нелидова.
— Государь, какой у меня сегодня счастливый день!
— Что же могло вас так обрадовать, Катишь? День как день. Серый. Пустой.
— И вы спрашиваете? Вы можете спрашивать, ваше высочество!
— Но право же, мне ничего не приходит в голову.