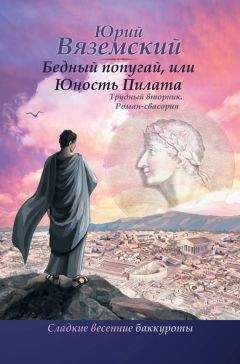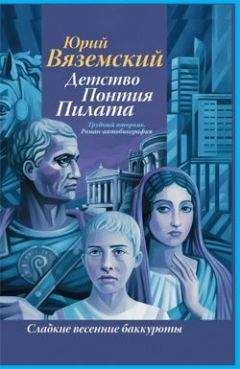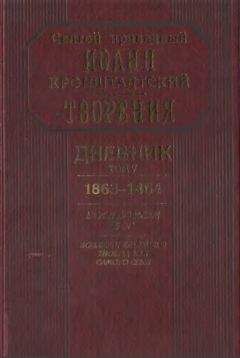Так сам Голубок мне описывал свои состояния. Он вычурнее выражался, чем я сейчас пересказываю.
XVI. — С Альбиной Голубок прошел через те же самые стадии, — продолжал Вардий.
(1) Когда Мелания исчезла из Рима, он жадно набросился на Альбину, пытаясь заполнить образовавшуюся внутри себя пустоту. Теперь Альбина и впрямь стала для него Единственной, потому что другую женщину у него отняли. Но он, по его словам, наслаждаясь той легкой свободой, которую ему подарили, еще благодарнее стал отдавать себя Альбине, всю свою любовь только ей посвящая и почти без остатка в ней растворяясь, теряя себя не только на ложе, но когда просто сидели рядом, друг на друга смотрели, разговаривали или молчали. По его признанию, он никогда так сильно не любил Альбину, как в этот месяц, на первой стадии. И никогда до этого ему не было так пусто и свободно, когда он уходил от нее.
(2) Но вот наступила лунная стадия, в которой, ты помнишь, свобода стала тоскливой. Теперь, когда Голубок встречался с Альбиной, он уже не мог оставить за порогом свою тоску, и она, словно лунный свет, проливалась теперь на Альбину, делала ее красоту призрачной и таинственной. А он, погружаясь в ее красоту, по-прежнему в ней растворялся, но уже не радостно, а с каким-то душевным томлением, с опасливым ощущением, что там, в таинственной глубине, его как бы опутывают и обманывают, лишают его, Голубка, той свободы, которую он недавно счастливо обрел и с которой уже не хочет расстаться.
(3) Солнечная стадия развеяла ощущение обмана. Но одновременно исчезли призрачность и таинственность в Альбине.
Красота ее теперь была освещена до каждой точеной черточки, до каждой очаровательной ямочки на щеке и укромной ложбинки на теле. Он ими по-прежнему любовался, по-прежнему наслаждался, но он их теперь слишком отчетливо видел, слишком хорошо успел изучить, и они стали терять свою укромность и очарование… Как бы мне точнее тебе описать? Голубок мне очень путанно описывал… Он все еще был очарован Альбиной, но так давно и столько раз уже ею очаровывался! И порой, целуя и обнимая Альбину, вдруг пугался, что очарование может пройти и Альбинина красота перестанет его привлекать. А уходя от нее, испытывал чуть ли не досаду на то, что она так статуарно, так неестественно красива — его, Голубка, эпитеты. Досада незаметно переросла в обиду, обида — в чувство вины и стыда. И чем меньше он понимал, на что он досадует и на что обижается, тем явственнее и мучительнее становились стыд и вина…
XVII. Именно тогда, пытаясь отделаться от тягостных ощущений, Голубок стал сочинять «Героиды». Это были стихотворные письма женщин, которых покинули их мужья или возлюбленные. Как всегда, ничего нового он не придумал. Незадолго до этого Проперций написал элегию, в которой сицилийская Аретуза обращалась с письмом к своему далекому супругу Ликоту. Подражая ему, Голубок принялся строчить свои «Героиды»: Пенелопа писала горестное и укоризненное письмо Улиссу, Филлида — Демофонту, Брисеида — Ахиллу, Федра — Ипполиту… Повторяю, всё это он затеял, чтобы избавиться от той мучительной свободы, которая охватывала его, когда он уходил от Альбины и оставался наедине с самим собой.
Встречи с Альбиной, до этого ежедневные, он всё чаще стал откладывать и переносить, на день, на два, на три дня.
Альбина не возражала. Вместо Голубка она стала посещать Эмилию, его жену. Они так подружились, что их теперь все время видели вместе: у ювелиров на Священной дороге они подбирали для себя украшения, на Субуррской улице приобретали косметику, на Целии примеряли и покупали обувь. Вместе ходили в храмы: к Доброй Богине, к Изиде на Марсовом поле и к другой Изиде близ оливковой рощи, к Венере Родительнице и к Миртовой Венере. Ну, в общем, сошлись и расставаться не собирались. И это, как я понимаю, еще сильнее отдалило Голубка от Альбины.
Гней Эдий кисло мне улыбнулся и вдруг истошно закричал, глядя не на капитана, не на матросов, а мне в глаза:
— Эй, там! Вы что, уснули?! Не видите, нас относит от берега?! Гребите в порт, орел вам в печень!
Гребцы поспешно опустили весла, и барка устремилась к Новиодуну.
Я выждал какое-то время и спросил:
— А дальше?
— Что дальше? — продолжая кисло мне улыбаться, переспросил Вардий и тут же заговорил сбивчивой и ворчливой скороговоркой, с брезгливым выражением на лице:
XVIII. — Помнишь: волна набежала и стерла два имени? Тогда, у Альбанского озера (см. 9, V). А на самом деле — проза стерла поэзию. Вернее, своими стишками Голубок взял и перечеркнул…
Альбина вдруг заболела. Так тяжело, что несколько дней была чуть ли не при смерти. Анхария привела к ней Антония Музу. И тот, осмотрев ее, говорит: «Что ж вы хотите. Аборты у нас не многие умеют делать. Я умею. Почему ко мне не обратились?» Ты представляешь себе, что тут началось!
Не будем вдаваться в подробности: как она на это решилась? почему не посоветовалась с Анхарией? почему ни слова не сказала Голубку? Тем более что мне эти подробности неизвестны. Говорю: эти ожившие статуи непредсказуемы!
Короче, тяжко болела. Но потом — слава Венере или Изиде! — поправилась.
А Голубок наш бросил писать «Героиды» и вдруг настрочил две элегии. Стишки были вдвойне, втройне бестактными. Во-первых, они определенно указывали на Альбину.
Бремя утробы своей безрассудно исторгла Коринна
И, обессилев, лежит. С жизнью в ней борется смерть.
— Многие ведь знали, что Альбина больна, что лежит при смерти, но никто не догадывался, что она «бремя утробы исторгла». А он теперь взял и объявил об аборте своим читателям, которых у него был целый город!
Во-вторых, в той же элегии он написал:
Все же она понесла — от меня, я так полагаю.
Впрочем, порой я готов верным возможное счесть.
— Это что такое? Намек на неверность Альбины? На то, что она от другого могла забеременеть: от мужа, например? Разве не бестактно в такой-то щекотливой ситуации?!
И, наконец, в другой элегии, написанной и разошедшейся по городу следом за первой, содержались уже обвинения и чуть ли не проклятия. Элегия начиналась:
Подлинно ль женщинам впрок, что они не участвуют
в битвах
И со щитом не идут в грубом солдатском строю,
Если себя без войны они собственным ранят оружьем,
Слепо берутся за меч, с жизнью враждуя своей?
Та, что пример подала выбрасывать нежный зародыш, —
Лучше погибла б она в битве с самою собой!
А заканчивалась еще грубее:
Женщины ж этим грешат, хоть нежны, — и ждет их
возмездье:
Часто убившая плод женщина гибнет сама, —
Гибнет, — когда же ее на костер несут, распустивши
Волосы, каждый в толпе громко кричит: «Поделом!»…
Ты знаешь, как я любил и люблю Пелигна, как перед ним преклоняюсь. Но даже я, когда прочел эти элегии, не удержался и сказал:
«Что же ты делаешь? Зачем порочишь себя и позоришь свою любимую?»
А он, ничуть не смущенный, радостный и беззаботный, стал мне в ответ щебетать, что его любимая — поэзия, что ее он никак не мог опозорить, потому как элегии, по его мнению, вышли и славные, и поучительные.
Действительно, ославил на весь Город! Так что мужу Альбины пришлось надолго уехать из Рима и жену с собой увезти.
Анхария же вызвала к себе Голубка и сказала:
«Боги накажут тебя за Альбину. А пока они этого не сделали, забудь дорогу к моему дому! Я тебя знать не желаю. И проклинаю тот час, когда я в тебя поверила!»
Думаю, она просто перепугалась, что дело может дойти до Августа и ей, Анхарии, в первую очередь не поздоровится.
Не знаю, дошло или не дошло. Но Анхария Пуга с той поры возненавидела Голубка.
Камара наша в это время уже причаливала к пирсу.
Свасория двенадцатая
Учитель
I. Стоит начать вспоминать и в воспоминания углубиться, как самые эти воспоминания вдруг начинают задавать тон и выбирать направление, и ты, для себя незаметно, будто выпускаешь из рук поводья, а лошади влекут твою повозку совсем не туда, куда ты вначале собирался отправиться. Так странно и противоречиво устроен человек… Во всяком случае я так устроен.
Я вроде бы юность свою хотел вспомнить. А вместо этого вот уже несколько часов вспоминаю о жизни человека, который родился… дай-ка сосчитать… да, за тридцать девять лет до того, как я сам появился на свет. Стоит ли тратить на него свое драгоценное время?