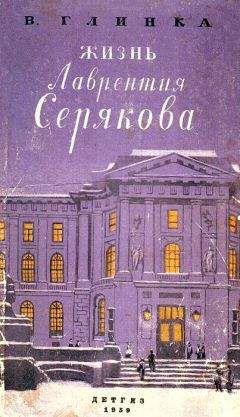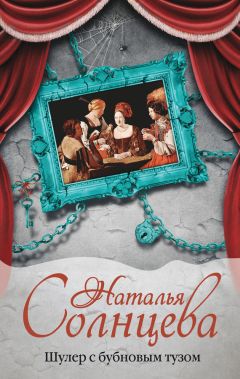Так они и прошли весь нелегкий путь от Москвы до Парижа и обратно в Петербург, в казармы полка на речке Карповке. В конце войны Булатов был уже штабс-капитаном, с честно заслуженными Владимиром и Анной на груди, с наградной шпагой «За храбрость», а через два года получил чин капитана и принял ту же роту, где оба они служили.
Еще в походах заметил он редкую понятливость неграмотного солдата и по возвращении в Россию начал учить его. Скоро Антонов постиг чтение и письмо. Но капитан говорил:
«Надобно мне, чтоб стал ты самое малое хорошим писарем. Я в роте не вечно, когда-нибудь меня, может, выше переведут, а может, и совсем в отставку уйду, не нравится мне мирная плац-парадная служба. Придет к вам какой-нибудь грубиян, будет вас по аракчеевской моде строжить, бить начнет… А ты мне дорог. Жаль мне и всех своих солдат, да тебя всех жальче. Хочу тебя вытащить из этой кабалы насколько возможно. Учись, брат».
И Архип учился изо всех сил. Булатов сам писал ему прописи, купил грамматику, задачник. При всяком удобном случае брал к себе в дом, кормил сытно, спать укладывал мягко, но заставлял без устали читать, писать, считать в уме, на бумаге, на счетах. А жил он с младшим братом, тоже офицером, именно в тех комнатах, где теперь размещалась команда писарей.
Оба дома, что арендовал департамент военных поселений, принадлежали тогда генералу Булатову, и старшие сыновья жили отдельно от отца и мачехи с их детьми. Здесь-то именно, в зале, когда не бывало гостей, у этой самой печки, сиживал гренадер Антонов, упражняясь в письме и счете, здесь проверял его знания капитан, поправлял, объяснял, хвалил за успехи.
Навсегда запомнились Антонову прописи, составленные Александром Михайловичем: «Жестоким к малому, слабому или подчиненному бывает только низкий душой». «Богатство без образованности обращается во зло людям». «Государство Римское прославилось республикой, которая была правлением лучших людей всего народа, радевших о благе общем»…
Здесь же прислуживал Архип за первым семейным обедом своего командира. Женитьба Булатова ничего не изменила в отношении его к Антонову, по-прежнему бывал он здесь частым, ласково встречаемым гостем.
В 1820 году Архип был переведен в ротные писаря, а в 1822 году Булатова произвели в полковники и назначили командовать армейским егерским полком в Пензенскую губернию. И, прощаясь с ним в том же зале, Архип едва удерживал слезы.
Недолго пробыл он ротным писарем. За способности к счетоводству перевели его в хозяйственную канцелярию, где с утра до ночи сидел он уже за цифрами разнообразной обмундировочной, амуничной и оружейной отчетности. Где-то услышал об аккуратности и точности его работы Аракчеев и в 1824 году вытребовал к себе в департамент.
Незадолго до этого узнал Антонов, что Александр Михайлович овдовел. А в 1825 году умер и отец-генерал. Потребовался раздел имущества между старшими сыновьями и вдовой с ее детьми. В ноябре приехал в Петербург полковник Булатов.
Но, должно быть, не только по делам наследства он приехал. Не раз, приходя повидаться, Архип заставал в зале офицеров разных полков. Они о чем-то оживленно говорили и замолкали при его появлении.
А потом произошло восстание на Сенатской площади. Вечером этого дня, прослышав о выходе части своего полка против Николая, Антонов отлучился из команды и прибежал в дом на Спасской. Александр Михайлович жег в печке какие-то бумаги.
— Бросай, Архип, да мешай кочергой, чтоб и пепла целого не осталось, — сказал он, указывая на груду каких-то листков на полу. — Жги все, я на тебя надеюсь. Да торопись! — И ушел в кабинет рядом.
Слышно было, как он там о чем-то спорил с младшим братом.
Прислуга — в доме все его знали за своего — рассказала Антонову, что утром полковник был на площади с пистолетами под шинелью и возвратился в сумерки в простреленной картечью шляпе.
В ту ночь Архип не пошел в команду — будь что будет, — а задремал тут же, в кресле у печки. На рассвете разбудил его Александр Михайлович. В мундире и при шпаге, он расцеловался с писарем и уехал.
— Куда же они? — спросил Архип младшего Булатова, еще стоя в подъезде.
— Во дворец поехал, новому царю в руки отдаться, — отвечал тот. — Советовал я за границу бежать, да куда! Товарищи, говорит, там, значит, и мне нет другого места.
Больше Антонов не видел живым своего командира. От слуг знал: сидит он в Петропавловской крепости с другими, что участвовали в восстании. А 19 января прислали за ним лакея. В этом же зале в глазетовом гробу лежал молодой полковник с забинтованной по самые брови головой. Передавали: сам будто разбил голову о стенку в каземате. Что ж, возможно: измучили допросами, заковали в кандалы, как разбойника, вот и одолели бессонница да тоска по покойной жене, по деткам…
— А может, и судьи неправые что над ним сделали, — более глухим, чем всегда, голосом сказал Антонов и на несколько минут прервал рассказ, вертя в пальцах погасшую трубку.
Один из всех, замешанных в дело, Булатов умер во время следствия, и «в память заслуг отца» царь приказал выдать родным его тело. Завернув покойника в свою шинель, брат привез его в санях на Спасскую. Преображенский собор незадолго до того сгорел, и потому после панихиды в зале отпевали в Пантелеймоновской церкви. Собралось много народу; прежние сослуживцы, лейб-гвардейские офицеры, стояли вокруг гроба, потом шли за катафалком на Охту в одних мундирах, а мороз был сильный.
— Понимаешь теперь, Лавреша, почему камора наша мне памятна?.. Как сказали ближним после того летом, что здесь квартировать будем, я и ушам не поверил… Конечно, почитай, в каждой комнате, в любом доме кто-то жил, мучился, помирал. Но чтоб судьба привела меня в эту самую, мне одну изо всего города памятную, — не чудно ли?.. Не сплю другой раз… от старости, что ли… и все Александра Михайловича в ней вспоминаю да себя молодого около него. Как уроки тут учил, что он задавал, как после венца ими любовался, как бумаги жег и на панихиде его плакал. И вот тут же век доживаю… А не он бы, так гнить мне сейчас в здешней земле или в турецкой. На площадь-то как раз наш батальон вышел. Потом, кого там картечина не положила, всех сослали в крепостные работы или на Кавказ.
В турецкую войну наши гренадеры пять пушек отбили из тех, что потом сюда привезли да около собора этого нового установили. Хожу мимо да смотрю — мог бы и я своей кровью их добывать… И, бывало, вот как жалел, что не помер с Александром Михайловичем заодно или после с товарищами за то, что на площади побывал…
— Ну, а брат его что же? — спросил Серяков. — Видаете вы его?
— Он в тот же год в отставку вышел, дома эти оба — они ему по разделу достались — чиновнику Лисицыну продал, а сам уехал. Сказывали ихние люди, что по оброку тут ходят, будто под Курском в деревне живет, племянниц-сирот, двух дочек Александра Михайловича, растит… Видишь, в городе и родни никого нету; я да лакей один, им на волю отпущенный, за могилкою ходим.
Антонов набил новую трубку, высек огня и закурил. Они долго молчали. Красноватое вечернее солнце освещало кладбищенские деревья и кресты, убогие охтенские домики. Далеко, на той стороне Невы, сверкали кресты Смольного собора.
— А других из тогдашних… ну, из тех, кого в крепость посадили, вы не знавали? — спросил Лаврентий.
— Своих офицеров лейб-гренадерских, поручиков Панова и Сутгова, что батальон на площадь вывели и за то в Сибирь каторжниками пошли, понятно, знал, но не так близко, молодые они были, — отозвался Антонов.
На дороге, близ которой они сидели, показались две таратайки, запряженные низенькими сытыми лошадками. Должно быть, охтенские мещане-столяры возвращались из гостей. Подгулявшие седоки смеялись и что-то кричали друг другу.
— Пора и нам, Лавреша, в город, — сказал Антонов, пряча потухшую трубку в карман.
Но Серяков не двинулся. Он думал о рассказанном. Душа томилась жалостью к погибшим, о которых он слыхивал и раньше, но куда глуше, без отдельных человеческих судеб. Иногда говорили о них с оглядкой, сочувственно. Но чаще поминали их унтеры и более высокие начальники с бранью, как бунтовщиков, которым поделом, мол, и наказание.
— Архип Антоныч, а чего же хотели они?
— Чего хотели?.. А того, чего и мы с тобой хотим. Чтоб крепостное право изничтожить, чтоб солдаты только семь лет служили, чтобы в судах для всех совесть была… Ну, еще кое-чего… И все для простого народа, заметь. Чего, скажем, Александру Михайловичу моему недоставало? Генеральский сын, богач, в тридцать лет полковник, в тридцать пять — генерал верный. А ведь пошел и голову свою за нас положил… Вот почему, брат, и через столько годов всё про него помню, как про самое святое, что в жизни видел. От него и я понял, что перед неправой силой пресмыкаться не след, что правда не в деньгах, не в чинах, что можно за нее даже смерть принять… Вот и жить стараюсь вроде как по его завету. Тружусь честно, перед начальством не выслуживаюсь, в чиновники — смотрители магазина какого-нибудь казенного, где тысячи наворовать можно, — не лезу. А ведь не раз предлагали в регистраторы произвести и место обещали, только поднеси кой-кому «барашка в бумажке». И делами нечистыми по счетной части не занимаюсь. А ведь тоже мог бы, сколько раз самому немалых «барашков» подсовывали… Да верю еще, что придет время, когда для простого народа другая жизнь наступит, такая, как Александр Михайлович хотел.