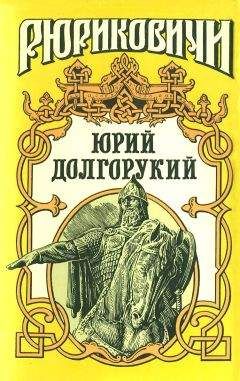- Добро! Добавил:
- Придёт и к страждущим счастье!
Подумал и отвернулся: надо было идти к делам…
Дела давно торопили: воины растащили остатки сгоревших изб и очистили место. Старательный Симеон на дубовом обрубке, служившем вместо стола у сгоревшей княжьей избы, начертил углём план рва и линии стен. Плотники Симеона сбивали первые, пробные клети Тарасов.
Город в те годы рос многочленно. Он начинался с «кремля», «детинца» - удобного и высокого места, стянутого оградой. Вначале такой детинец был нежилым огороженным местом - остоем, куда слободские или посадские люди бежали спасаться за крепкими стенами от врагов. Потом этот кремль расширялся: в нём строились княжьи или боярские да торговые и жилые дома. Так постепенно кремль становился местом засельным. К нему пристраивался с годами «кромный», «окольный» город, тоже закрытый крепкой стеной, или посад. За окольным тянулось широкое предгородье, разделяемое на концы, а концы - на улицы. Иные селенья лепились к большому городу, как к защите, к месту торговли и управления. Малый же город, в сущности, отличался в те годы от простого посёлка лишь степенью безопасности и защиты: в посёлке каждый сам огораживал свой двор «забралом» от зверя и человека, а в городе дома лепились за общей одной оградой с воротами, стрельницами и бойницами.
Стены строились разно. Самые крепкие и надёжные были в виде Тарасов - дубовых клеток, забитых сверху землёй и камнями. Тарасы соединялись «впритык», «в обло», «в лапу» или «с остатками», то есть так, чтобы от башни к башне стена протянулась единой и нерушимой защитой.
На сажень отступя от внешней стены, ставился тын - ряд заострённых кверху дубовых брёвен. А перед тыном копался ров. Перед рвом насыпался вал. На главной стрельнице (башне) большой городской стены укреплялся вестовой «сполошный» колокол и ставился часовой…
Юрию предстояло теперь основать московский детинец, установить здесь первую часть Тарасов по чертежу, составленному Симеоном с учётом достоинств и трудностей взгорья. По тому же наброску строителя князю надобно было наметить линию рва и тына с тем, чтобы летом, когда оттает земля, люди могли уже без него доделать важное дело. Сейчас же следовало определить и места, где встанут первые башни. Кроме того, Страшко и строитель ждали его указаний: как надлежит устраивать здесь людей, лишённых из-за пожара последней крыши? И где «сажать» мужиков да баб, взятых в смоленских, рязанских да новгородских землях, включая присланных Святославом?
Вместе с ладным, трудолюбивым Никишкой, счастливым уж оттого, что нашёл он отца с сестрой да Ермилкой живыми, в родных краях, Страшко после долгих присмотров выбрал себе на взгорье кусок земли под собственную избу. Они вчетвером успели даже расчистить место, надеясь, что после труда на княжьем холме останутся силы трудиться на взгорье и для себя…
Как и Страшко, другие бездомные мужики наметили те места, где захотелось им ставить дворы да новые избы.
Пора начинать, пора!
Обдумав это, Юрий решил: чтобы освободить своих мужиков от лишней тоски во имя важного дела, надобно прежде всего скорее зарыть их баб, зарезанных здесь волхвами. И он приказал хоронить зарезанных в тот же час, а нищих, убитых в свалке, зарыть в стороне, у самой Москвы-реки.
Одиннадцать милых, трудолюбивых, жилистых, некрасивых, всегда голодных, исправно рожавших, весёлых и крепких баб обрядили в последний путь.
Обрядили их без попа, ибо чернец Феофан был тяжко избит Клычом при погроме. Услыхав набат, Клыч сам подскочил к церковке, толкнул Феофана от перекладины на столбах, на которой подвешен был колокол. Феофан, в свою очередь, оттолкнул Клыча, продолжая набатом сзывать людей. Тогда волхв несколько раз сильно ударил попа дубиной, свалил его наземь, церковь поджёг. От церкви остались лишь дымные головешки, зато уцелела часовня. Теперь Феофан лежал в той часовне на прелой соломе, лежал и тягостно умирал. Любава дала ему ковш с водой. Он напился, но легче ему не стало. Тогда он сказал кому-то:
- Иду! - и взглянул в открытую дверь - на небо.
Он сожалел, что уходит из жизни рано, хотя уже семьдесят восемь лет легли за его плечами.
Сонмы людей и дел он видел за эти лета. Многого славного и большого касалась его душа. О многом оставил он память в своих летописных свитках. Но жизнь - бесконечна, и каждое новое дело зовёт к себе, будто песня.
Идти бы с той песней от века до века, провозглашая славу солнцу, земле и людскому деянью! Вон, говорит Любава, сбивают уже тарасы… Вон стук топоров тревожит весенний полдень… Вон кони борзые ржут… Вон люди галдят, согретые славным делом.
Пойти бы туда, оглянуть их дело ласковыми очами, возрадоваться и сказать:
«Будь славен вовек, строитель!»
Однако слабость неволит тело. Видать, что друг Симеон с людьми без него на холме сем город поставит…
Почуяв конец, Феофан велел Любаве подать ему из угла часовни кучу стареньких свитков - жёлтых листков, связанных в толстую книгу, и несколько плоских, тщательно вытесанных дощин, исписанных бледной, выцветшей чернью. Взяв книгу и доски в руки, старик улыбнулся. Его коричнево-серое лицо озарилось светом истинной радости: это был труд его многих лет, завещанный людям нового века.
Едва шевеля губами, он тихо сказал:
- Пусть прах мой скоро рассыплется пылью. Но, как пчела любодельна в единый сот собирает сладкие меды, так я с цвета века писания эти собрал и ими вечную память сам себе сотворил. Не корысти, не мзды я искал в том труде безмерном. И не безумная гордость быть славным среди других рукою моей водила. Я делал всё это лишь долга рвения ради…
Он взял дрожащей рукой перо, обмакнул в аккуратную маленькую долбянку, залитую чернью, и наклонился к доске. Долго, то откидываясь назад и закрывая глаза, то опять приникая лицом к дощине, тяжело вздыхая и бормоча, писал он каждое слово.
Отчего-то робея, будто старый чернец Феофан делал при ней нечто тайное, стихнув и неотрывно глядя в обтянутое серой кожей, костлявое, уже неживое лицо старика, глаза которого ещё продолжали светиться большой, но заметно гаснущей жизнью, Любава слышала, как чернец-летописец шептал, забыв о ней и о мире, безвозвратно и медленно уходя во тьму:
- Желания сердца моего, братие, не презрите. Скудость мысли моей не отриньте…
Вскоре силы его оставили. Он кончил писать, откинулся на взбитую Любавой сенную подушку и строго, раздельно сказал:
- Кончашася книга сия рукою грешного Феофана в лето 1147 при Юрии-князе. Где же худо, братие, я писал - благословите, но не кляните. Аминь…
Любава поняла, что старик читает последние, только что написанные им строки. Она повторила тихо:
- Аминь! - и взглянула на книгу.
Сколько мудрый старик исписал их, этих дощин и свитков! Писал их без отдыха - день за днём, год за годом! Ни солнца свет, ни ветра шум, ни птиц милые песни и ни людской буйный толк не отвлекали его от дела. Он только и делал, что думал, глядел, писал. И вот лежит его книга на слабых, острых коленях…
Ой, нет: колени опали!
Любава вскочила: а вот и перо покатилось из тонких пальцев…
Незрячие старческие глаза вдруг сразу ввалились, тело обмякло. Не стало в том теле жизни, раз нет дыхания. Угас летописец, умер…
Любава бережно подняла перо. С чувством горестной пустоты она собрала дощины и свитки, сложила их в том углу, где они лежали у старого раньше. Перекрестившись и поклонившись телу, она внимательно оглядела часовенку - книгу, доски, маленький стол, скамью и скудное ложе. Потом ещё раз до самой земли поклонилась и вышла из полутёмной часовни на свежий воздух.
Сразу же мир рванулся в её глаза весенним ветром и светом. Облитое солнцем небо, сверкающая земля и ветви ближнего леса, река, бегущая под холмом к неведомым странам из дальних тайных земель, и стуки, и шумы, и сердца сладкая песня - пьянили, обласкивали, вели.
А впереди, в самом сердце весеннего мира, идя к Любаве навстречу, всходил на светлое взгорье, глядел родными очами и улыбался милый парень Мирошка…
Глава XXXI. СЧАСТЛИВАЯ НОЧЬ
Целовалися они, миловалися,
Золотыми перстнями поменялися.
Былина
Мирошка возвратился в посёлок вместе с дружиной Ольга: «десяток» Улебы, в котором парень сражался, был послан княжичем Глебом в виде почётной свиты со Святославичем, а кстати, и как конвой для пленных черниговцев и смолян, которых гнали в подарок князю.
Кончилось для Мирошки первое воинское испытание.
Остались позади и никогда не вернутся такими, как были, внезапные стычки, рёв бородатых противников и друзей, кровь на копьё, враг на коне, месиво снега, песка и крови. От этого сохранились только рубцы от ран да окрепшее сердце.