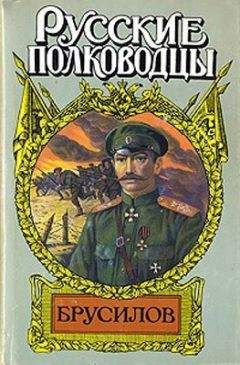Игорь невольно ахнул, так неожидан был этот переход к жизни. Молодой генерал Духонин рассмеялся и крикнул почему-то очень громко:
— Смотрите! Горит!
И точно, лес на взгорье запылал под брызнувшими на него лучами солнца. Оно поднялось из-за мелколесья, ударило в спины генералов.
Брусилов снял фуражку, поежился от легкого озноба, опять прильнул глазами к стеклам цейса, тотчас же опустил его и, глянув на стоявшего о бок с ним Зайончковского, воскликнул:
— Андрей Медардович! А что, если действительно зажечь?
— Лес? — подхватил Зайончковский, и острое лицо его заиграло тонкой улыбкой. — А ведь идея, Алексей Алексеевич!
— Так действуйте! — в тон ему ответил Брусилов.
Едва стемнело, саперы перебрались на взгорье, и по всей линии вдоль топи запылал валежник, затлел можжевельник, вспыхнули вершины сосен. Как и следовало ожидать, противник открыл огонь по топи, решив, что русские отважились форсировать ее. Под прикрытием пожарища саперы взялись за рытье окопов. Мелколесье горело жарко, но пожар не мог прекратиться раньше двух-трех суток. За это время австрийцы перенесут артиллерийский огонь ближе — на пожарище, наши части не спеша гуськом переберутся в уже готовые окопы сторожевого охранения на взгорье, расширят их и займут. Сближение с противником осуществится. С новой исходной точки правый фланг группы Зайончковского легко сделает свой первый бросок вперед.
В Сарнах, перед отъездом в Каменец-Подольск, в штаб армии Лечицкого, Брусилов собрал всех командующих корпусами, начальников дивизий и других начальствующих лиц 8-й армии.
— Помните, господа, — сказал он, — предстоящие бои — наша ставка на жизнь. Тут нужно решать всем и каждому порознь. Кто не в силах — пусть уходит сейчас. За младшего ответит старший. Так и передайте по команде… Говорю сейчас, чтобы не повторять, когда придет час боя.
Напомню общую директиву. Первое — наступать густыми цепями, чтобы держать людей в руках, а за ними двигать поддержки и резервы в еще более густых строях. Потерь не бояться. При бесповоротном движении вперед их всегда меньше. Второе: дисциплину всегда и везде, а тем более в строю, поддерживать строжайшую. Третье: начальникам всех степеней, до начальников дивизий включительно — в бою выбирать себе такое место, чтобы видеть бой, а не только слышать его. Четвертое: во время боя доносить все без мрачных прикрас, бодро и правдиво. Пятое: не пугаться прорывов и обходов. Прорывающихся брать в плен. Обходящих — обходить в свою очередь. Для сего иметь резервы. Живо и всеми силами помогать соседям. Шестое: разведку и наблюдение за флангами высылать возможно дальше и обязательно иметь боевое сторожевое охранение, не заставляя бодрствовать всех. Седьмое: помнить, что дальше нам уходить некуда! Только вперед или в могилу! Мы должны разбить врага и погнать его с нашей земли. Поменьше заботиться о следующих оборонительных рубежах, а укреплять и оборонять те, на которые поставлены. Восьмое: помнить, что дело победы — дело общее. Твоя честь — помочь соседу не только огнем, но и наступлением. Помнить — тот, кто поставлен оборонять, вовсе не должен стоять на месте. Оборона не исключает развития самых энергичных, активных действий на отдельных участках.
Убежден, что моя восьмая армия, прославившаяся несокрушимой стойкостью и беззаветной храбростью, не допустит померкнуть заслуженной ею столь тяжкими трудами и пролитой кровью боевой славы. Она приложит все усилия, чтобы побороть врага в предстоящих ей боях. В том поможет вам всем наш доблестный командарм, принявший от меня армию и ее боевые знамена.
Поздравляю вас, господа, с предстоящим наступлением. До счастливой встречи после победы!
В двадцать часов тридцать минут 20 мая Алексеев получил телеграмму:
«Оперативная. Начало артиллерийской атаки 22 мая на рассвете. Брусилов».
— Так, — обескураженно протянул Михаил Васильевич и взглянул на Пустовойтенко усталыми, с покрасневшими веками глазами.
Он ждал с минуты на минуту эту телеграмму и вместе с тем слабодушно надеялся, что какие-нибудь непредвиденные обстоятельства помещают Брусилову осуществить свой план.
Пустовойтенко промолчал. Он вполне разделял опасения своего начальника.
Только что Михаил Васильевич говорил по прямому проводу с Эвертом. Разговор был длинный, неприятный и очень утомил начштаба. Алексей Ермолаевич убедительно доказывал, что нельзя из-за «каких-то итальяшек» форсировать события, что надобно идти в наступление с оглядкой, все предварительно взвесив, а не наобум Лазаря, как Брусилов, план которого не выдерживает критики. Из всех этих рацей с очевидностью явствовало, что Эверт будет всячески оттягивать начало операции и рискованное брусиловское наступление не только не поддержит, но порадуется его провалу.
Что же делать? Михаил Васильевич клял себя, что при последнем разговоре с главнокомандующим Юзфронта проявил недостаточную твердость. «Он всегда подкупает меня своей горячностью и верой, — думал Алексеев, — но план его безумен… я всегда это чувствовал… Безумен».
— Ну сами посудите, Михаил Саввич, — говорил он Пустовойтенко, — как не согласиться с Алексеем Ермолаевичем, что атака противника одновременно во многих местах, как ее задумал Алексей Алексеевич, вместо одного удара всеми собранными силами и всей артиллерией, предпринята крайне, крайне рискованно… грозит катастрофой… Но он же фантазер, энтузиаст, он не хочет этого понять.
— Может быть, Михаил Васильевич, у него все-таки на то есть веские основания?
— Ах! Какие там основания! Рисковать можно в карты, наконец своей собственной жизнью, но армиями… Армиями! Нет, нет, надо отговорить его, попридержать…
И все же ни в этот день, ни весь следующий Алексеев не решался говорить с Брусиловым. Он злился на Эверта, понимал, что его оттяжки и объяснения — дутые, продиктованы самолюбием, и душевно целиком был на стороне Брусилова. Но как только Михаил Васильевич представлял себе, на какой риск идет Брусилов и чему подвергает своим новаторством его самого как начальника штаба верховного, отвечающего за всю русскую армию, так тотчас же терял самообладание и готов был на все, чтобы удержать Юзфронт от «безумия». Именно в таких тонах он изложил обстоятельства дела на докладе государю.
Николай, как и следовало ожидать, вполне согласился с его мнением.
— Прикажите ему моим именем отложить атаку на несколько дней. Пусть перестроится на один ударный участок, как того требует практика войны, и не выдумывает… Довольно этих кавалерийских замашек!
Что подразумевал царь под кавалерийскими замашками, трудно было понять, но самый тон, каким это было произнесено, глубоко задел Алексеева. Совесть говорила ему, что он сам виноват, что подверг одного из лучших генералов русской армии незаслуженному оскорблению. Но как же быть? Как быть? Что делать, если только авторитет этого безответственного верховного может подействовать отрезвляюще на горячую голову умницы?..
«Но нужно ли, нужно ли его обуздывать? Не слишком ли много у нас пустых, равнодушных голов и не потому ли мы на краю гибели? О Господи!»
Только поздно вечером 21-го, после молитвы, Алексеев вызвал Брусилова к прямому проводу. Высказав ему свои сомнения, он просил его отложить атаку на несколько дней и сослался на желание его величества. Он прикрыл себя именем царя, как щитом, чувствуя, как жалко и ненужно это звучит. Но все же такого отпора, какой последовал в ответ, он ожидать не мог.
— Изменять свой план атаки отказываюсь наотрез. При отклонении его прошу меня сменить. Откладывать вторично день и час наступления не нахожу возможным. Войска стоят на исходном положении для атаки. Пока мои распоряжения об отмене дойдут до фронта, артиллерийская подготовка начнется. Частые отмены приказаний действуют на войска деморализующе. Войска теряют доверие к своим вождям. Без доверия войск я не могу командовать. А потому настаиваю сменить меня.
— Но, Алексей Алексеевич, посудите сами, я передал вам пожелание его величества. Его величество уже лег спать. Будить его считаю неудобным. Подумайте…
— Думать мне больше не о чем. Ответа прошу сейчас!
Алексеев молчал долго. Он стоял перед аппаратом, влажный от нервной испарины, от стыда за себя, от бессильного возмущения. Он стиснул зубы, низко наклонив голову, руки по швам. Никогда еще не испытывал такого унижения и такого сознания своей вины.
— Хорошо, — наконец выдавил он, и перед глазами его предстал вечер после совещания, липовая аллея, он услышал голос Брусилова: «Устранять все, что мешает победе. Изобличать тех, кто подрывает дело победы, кто бы они ни были…» — Хорошо, — повторил Алексеев громче. — Бог с вами. Делайте как знаете. О нашем разговоре государю доложу завтра.